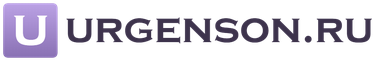Скачать аудиокнигу Николай Лесков. Некрещёный поп
Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце.
Уильям Теккерей, английский писатель-сатирик
Книга - огромная сила.
Владимир Ильич Ленин, советский революционер
Без книг мы теперь не можем ни жить, ни бороться, ни страдать, ни радоваться и побеждать, ни уверенно идти к тому разумному и прекрасному будущему, в какое мы непоколебимо верим.
Еще многие тысячи лет тому назад книга в руках лучших представителей человечества сделалась одним из главных орудий их борьбы за истину и справедливость, и именно это орудие придало этим людям страшную силу.
Николай Рубакин, русский книговед, библиограф.
Книга - орудие труда. Но не только. Она приобщает людей к жизни и борьбе других людей, дает возможность понимать их переживания, их мысли, их стремления; она дает возможность сравнивать, разбираться в окружающем и преобразовать его.
Станислав Струмилин, академик АН СССР
Нет лучшего средства для освежения ума, как чтение древних классиков; стоит взять какого-нибудь из них в руки, хотя на полчаса,- сейчас же чувствуешь себя освеженным, облегченным и очищенным, поднятым и укрепленным, - как будто бы освежился купаньем в чистом источнике.
Артур Шопенгауэр, немецкий философ
Тот, кто не был знаком с творениями древних, прожил, не ведая красоты.
Георг Гегель, немецкий философ
Никакие провалы истории и глухие пространства времен не в состоянии уничтожить человеческую мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и миллионах рукописей и книг.
Константин Паустовский, русский советский писатель
Книга - это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого рода, она - рупор человеческой мысли. Мир без книги - мир дикарей.
Николай Морозов, создатель современной научной хронологии
Книги - это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старика юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его место
Без книг пуста человеческая жизнь. Книга не только наш друг, но и наш постоянный, вечный спутник.
Демьян Бедный, русский советский писатель, поэт, публицист
Книга - могучее орудие общения, труда, борьбы. Она вооружает человека опытом жизни и борьбы человечества, раздвигает его горизонт, дает ему знания, при помощи которых он может заставить служить себе силы природы.
Надежда Крупская, российская революционерка, советский партийный, общественный и культурный деятель.
Чтение хороших книг - это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли.
Рене Декарт, французский философ, математик, физик и физиолог
Чтение - это один из истоков мышления и умственного развития.
Василий Сухомлинский, выдающийся советский педагог-новатор.
Чтение для ума - то же, что физическое упражнение для тела.
Джозеф Аддисон, английский поэт и сатирик
Хорошая книга - точно беседа с умным человеком. Читатель получает от нее знания и обобщение действительности, способность понимать жизнь.
Алексей Толстой, русский советский писатель и общественный деятель
Не забывай, что самое колоссальное орудие многостороннего образования - чтение.
Александр Герцен, русский публицист, писатель, философ
Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шири понимания; Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века.
Александр Герцен, русский публицист, писатель, философ
У нас Вы найдёте аудиокниги русских, советских, российских и зарубежных писателей различной тематики! Мы собрали для Вас шедевры литературы из и . Также на сайте расположены аудиокниги со стихами и поэтов, найдут для себя интересные аудиокниги любители и детективов и боевиков, аудиокниг. Женщинам мы можем предложить , а для , мы будем периодически предлагать сказки и аудиокниги из школьной программы. Детям будут также интересны аудиокниги про . Любителям у нас тоже есть что предложить: аудиокниги серии "Сталкер", "Метро 2033"..., и многое другое от . Кто желает пощекотать себе нервы: заходите в раздел
Состояние современной российской общественной жизни, общественного сознания, условия социального существования больших групп людей таковы, что о созидательном потенциале, роли в жизни общества великой классической русской литературы либо не вспоминают, либо же, если и вспоминают, то главным образом - ритуально, от случая к случаю.
Между классическим литературно-художественным наследием и теми, кому это наследие предназначено по логике истории, странным образом возвысилась как бы невидимая, но вполне реальная стена.
Классическое наследие с его колоссальной историко- познавательной, образовательно-нравственной мощью, гуманистической направленностью, тем самым - и воспитательными возможностями пытаются заместить не выдерживающими серьезной критики конъюнктурными стандартами массовой культуры, лишенной национально-исторической опоры. Изображение и пропаганда убийств, изощренных форм насилия одних над другими становятся почти нормой, в том числе и для литературы. Утверждение благородства, достоинства личности, отзывчивости, готовности служить общим интересам в качестве важнейших социальных обязанностей человека, неозъемлемое от содержательной ориентации русской классики в многообразном ее воплощении, оказалось почти в забвении. К сожалению, и современная исследовательская практика не смогла избежать влияния массовой и конъюнктурной субкультуры, проявляющегося, в частности, в выборе аспектов и направлений анализа классической литературы.
Но классика потому и является классикой, что не подвластна времени, капризам общественных вкусов, возвышаясь над ними как вечность, как величайшие творения человеческого духа. Она не перестает быть таковой и тогда, когда самонадеянное общество по тем или иным причинам отворачивается от нее. Общество в таком случае просто обкрадывает само себя, лишаясь ориентиров к нравственному самоусовершенствованию, игнорируя бесцен
ный опыт жизни, обобщенный гениями, - опыт, не утрачивающий своей актуальности. В плане анализа уроков классики весьма примечательна и повесть Н. С. Лескова под непритязательнобытовым названием «Некрещеный поп».
События, описываемые в повести, происходят во второй четверти XIX в. и охватывают первые годы царствования Николая Павловича, но огласку получают позже, «в самые суматошные дни» неудач в Крымской войне, и по этой причине не привлекли к себе должного общественного внимания, хотя и достойны были его. Так рассказчик обозначает незаурядность, важность «казусного дела» о «некрещеном попе». К художественному раскрытию этой незаурядности, исполненному в типично лесковской манере, и сводится содержание повести.
Повесть впервые была опубликована в журнале «Гражданин» за 1877 г. (№2 23-29) . Она проста но композиции, по незатейливому развертыванию повествования, почти линейна в гом смысле, что в ней нет сколько-нибудь значительных отступлений, отклонений от основной сюжетной инерции, сосредоточенной на раскрытии «казусного дела о “некрещеном попе”». Вместе с тем она глубока, многослойна но своему содержанию, и эта глубина обеспечивается пе столько композиционными и прочими структурными средствами, хотя, разумеется, и они играют свою роль, сколько средствами и приемами стилистики и поэтики, как это свойственно творческому методу Н. С. Лескова в целом.
Главный среди приемов в данном случае - это сквозная явная или скрытая аититетичность текстовых сегментов, их поверхностных и глубинных смыслов, на которой строится подтекст историко- культурного масштаба, воссоздающий звенья процесса зарождения и утверждения нового религиозно-идеологического течения, оставшегося, однако, незамеченным, с одной стороны, на фоне других, «большой важности», событий (по тексту повести), а с другой - потому, что не хотели заметить (по подтексту повести). Поскольку этот прием является, как уже говорилось, основополагающим для содержательно-художественных решений автора, предложенных в повести, то прежде всего на нем кратко и остановимся.
Антитетично уже само название повести, представляющее собой оксюморон - «некрещеный поп»: поп некрещеным не может быть, ибо он сам по определению является исполнителем ритуала крещения. Таким образом, в самом оксюморонном названии повести задана интрига.
Интрига дублируется, усиливается под названием-комментарием «Невероятное событие».
Основное название и подназвание в качестве текстовых единиц как бы преобразуются в единую эмфазой централизуемую коммуникативную синтаксическую конструкцию «Некрещеный поп - невероятное событие», в которой первое название выполняет роль темы, а второе - роль ремы, суждения о теме. За вторым названием следует третье, данное в скобках, - «(Легендарный случай)». Оно, в свою очередь, антитетично по отношению к первым двум, поскольку характеризує!’, квалифицирует их как легенду, т. е. как нечто неправдоподобное, невероятное, вымышленное^. Вместе с тем слова, составляющие третье подназвание, также противостоят друг другу по их исходным значениям, семантике: легенда, легендарное -- эго то, что незасвидетельство- ванно передается из уст в уста, вымысел, продукт фантазии; случай, напротив, - это то, что случилось, имело место, засвидетельствовано. Следовательно, первый компонент названия («легендарный») сводит на нет смысл второю («случай»), а второй - смысл первого. Это в принципе тот же оксюморон, который реализован в основном названии повести.
Основное название и второе подназвание, таким образом, и принципе изосемантичны, семантически дублируют друг друга на глубинном уровне. В то же время второе подназвание подсказывает и жанровую ориентацию предмета повествования -- это нечто трудно объяснимое реально, а потому относящееся к сфере легенд и фантастического.
От него тянется очевидная ассоциативная нить к комментированному посвящению академику Федору Ивановичу Буслаеву - одному из авторитетнейших исследователей русской народной словесности именно потому, что «это оригинальное событие
уже теперь, при жизни главного лица, получило в народе характер вполне законченной легенды» (курсив мой. - 3. Г.). В том же кратком авторском комментарии в качестве замысла повести констатируется, что «“проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, “как делается история”».
Основное название и подназвания повести вместе с посвящением также выстраиваются в целостную структуру-текст, компоненты которого связаны между собой отношениями рода и вида, противопоставления, пояснения и т. д., и в совокупности выражают вполне определенное содержание: «Некрещеный поп - это невероятное событие легендарного, т. е. фантастического, типа, и рассказ об этом в качестве разновидности народной словесности достоин внимания ученых-словесников прежде всего в том плане, ч тобы проследить, как легенда вообще складывается».
Складывал ли сам Н. С. Лесков заглавное название и подназвания повести вместе с посвящением в целостный текст, трудно сказать. Намеренно скорее всею нет. Интуитивно, интуицией художника - да. Иначе дотекстовая «лесенька» не поддается объяснению и должна быть квалифицирована как простое нагромождение заглавий, что совершенно пе укладывается в тончайшую, экономно-выразительную стилистику писателя.
Прологом к повести служит некое случайно попавшееся в поле зрения участников «приятельского кружка» газетное известие о свадьбе дочери какого-то священника, на которой местный дьякон «“веселыми ногами” в одушевлении отхватил трепака, чем всех привел в немалый восторг». Присутствовавшему на том же пиру благочинному «деяние дьякона показалось весьма оскорбительным, заслуживающим высшей меры взыскания», и он «настрочил донос архиерею» (1)\ Архиепископ Игнатий же в ответ сделал внушение не дьякону, а благочинному за то, что тот «завел кляузу из-за одного - притом исключительного случая», вместо того, чтобы все разобрать на месте.
Однако один из участников приятельского кружка, а именно тот, который станет рассказчиком, замечает в связи с этим: «... случай случаю рознь, и то, что мы сейчас прочитали, приводит
мне на память другой случай (выделено мною. - 3. Т.\ донося о котором благочинный поставил своего архиерея в гораздо большее затруднение, но, однако, и там дело сошло с рук» (I).
Таким образом, и приведенная реплика, и содержание собственно повести свидетельствуют о том, что случай в газетном известии, квалифицированный архиереем как единственный и исключительный, в действительности не является ни единственным и ни исключительным. Главное, как следует из последующего содержания повести, это знает и сам архиерей, хотя и утверждает обратное в расчете на предполагаемую доверчивость паствы.
Тем самым повесть строится па противопоставлении прологу, и само это противопоставление поднимает важную этическую проблему прежде всею церковной жизни - что в ней есть правда и стремление к истине, насколько в самой церкви соблюдаются нормы, которые провозглашаются обязательными и основополагающими для других?
По тому же принципу противопоставления выстраиваются и персонажи повести: 1)это, с одной стороны, парипсовский богатый казак Петро Захарович, по прозвищу Дукач, человек «гроз- ный-ирегрозный», «тяжелый, сварливый и дерзкий», «от природы весьма умный», жестокий и самоуверенный; человек, которому всюду сопутствовала удача: «все точно само шло в его железные руки», но всеми яростно ненавидимый; с другой стороны - все остальные иарипсяне, живущие чуть ли не ожиданием божьей «расправы над лихим казаком с нетерпением» (II); 2) это Дукач и его бездомный, бесправный, гонимый им племянник-сирота Агап; 3) это, с одной стороны, Христя Керасивна, которая имела «не совсем стройную репутацию: она была самая несомненная ведьма; столь несомненная, что этого не отрицал даже сам ее муж, очень ревнивый казак Керасенко, из которого эта хитрая жинка весь дух и всю его нестерпимую ревность выбила. жила она на всей своей вольной воле - немножко шинкуя, немножко промышляя то повитушеством, то продажею паляниц, то, наконец, просто “срывая цветы удовольствий”» (V); Дукач же считал ее «за женщину умную, с которою, окромя ее ведовства, во всяком причинном случае посоветоваться не лишнее» (X); с другой стороны, все парипсяне, включая Дукача, служители культа (священнослужители), в том числе и некрещеный
поп Савва; 4) это, с одной стороны, внешне строгие представления мирян о недозволенном и нормах религиозной жизни, а с другой - либерализм и бюрократизм священнослужителей в толковании верности или неверности этих представлений, когда в этом возникает необходимость; 5) это, с одной стороны, обыденное житейское поведение простых людей, с другой - глубина, последовательность их религиозных убеждений; 6) это, наконец, антитеза, заданная уже самим названием повести: обычные жители Парипсов в их поведенческом разнообразии и священнослужители; ядро этого противопоставления составляет финальное поведение Керасивны, всеми считавшейся ведьмой, и отца Саввы с архиереями. И т. д.
Для каждой из этих антитез в повести обнаруживается свой «момент истины», позволяющий судить о допустимом диапазоне нравственных представлений каждого персонажа, о степени органичности его внешне-поведепческих и сущностных проявлений.
Для самоуверенного, самонадеянного Дукача таким «моментом истины» становится рождение долгожданного сына, которого надлежало крестить, а для этого нужно было обратиться за помощью к тем, с кем он в повседневной жизни никогда не считался: «теперь люди ему понадобились, чтобы дитя крестить» (IV). Однако желанные для пего в кумовья «самые первые люди: молодая поповна-щеголиха, которая ходила в деревне в полтавских шляпках, да судовой паныч, что гостил об эту пору у отца диакона», отказались, а поп Парипс отец Яков объявил вообще невозможным крестить сына односельчанина-«злодея». Более того, он чуть ли не «в книгах вычитал, як Дукачоику на роду писано остаться некрещеным» (V). Не ждал Дукач отзывчивости и от других односельчан: «И если бы теперь старый Дукач забыл всю свою важность и стал звать последнего из последних на селе, то он наверно бы никого не дозвался, но Дукач это знал: он знал, что находится в положении того волка, который всем чем-нибудь нагадил, и что ему потому некуда деться и не от кого искать защиты» (V).
Но Дукач не из тех, кого могут сломить обстоятельства. Наоборот, ожидаемая, хотя до конца не дооцененная им враждебность односельчан придает ему еще больше энергии и решитель-
ности. Он, «настоящий казак», должен сделать все по-казачьи «назло всем» (V). И он твердо решает 1) «назло всем, но, может быть, особенно отцу Якову окрестить сына в чужом приходе, в селе Перегудах, которое отстояло от Парипс не более как на семь или на восемь верст»; 2) окрестить сына немедленно, именно нынче же, - чтобы завтра об этом и разговоров не было; а напротив, чтобы завтра же все знали, что Дукач настоящий казак, который никому в насмешку не дается и может без всех обойтись»; 3) взять «простых кумовьев (племянника Агапа и бабку Керасивну. - 3. Т.) - «встречных», как на то есть поверье, что таких бог посылает. Лгап и взаправду был первый «встреч- ник», на которого богатый казак иа первого взглянул при известии о новорожденном; а первая «встречница» была бабка Кера- сивна» (V). При этом неважно, что он, занимающий высшую ступень местной социальной лестницы, цепляясь за логику поверий, воспользуется услугами маргиналов в общественном мнении: социально униженного, во всем от него зависимого, почти бесправного Агапа и «ведьмы» Керасивны.
Сказано - сделано: декабрьским днем ближе к обеду он снаряжает сани, «запряженные парою крепких коней», усаживает в них Агапа и Керасивну с младенцем и отправляет их в другой приход- в село Перегуды к попу Ереме (X).
С точки зрения соблюдения социально принятых норм все - чин чином. Тем самым Дукач сделал все как «настоящий казак», как человек верующий, но при всем том остался верен и себе, ибо не пришлось унизительно упрашивать идти в кумовья тех, от кого не ждал отзывчивости.
Таким образом, он как будто одерживает моральную победу в противостоянии местному попу и односельчанам, хотя реальный результат его усилий, оставшийся ему неведомым, на деле оказался пустым.
Но, когда при свете звезд он увидел «мертвенное лицо племянника», которого пристрелил, приняв торчавшую из снега его смушковую шапку за зайца, он сломался и задрожал: «Дукач задрожал, бросил свою рушницу и пошел на село, где разбудил всех - всем рассказал свое злочинство; перед всеми каялся: “прав господь, меня наказуй, - идите откопайте их всех из-под снегу, а меня свяжите и везите на суд.
Просьбу Дукача удовлетворили; его связали и посадили в чужой хате, а на гуменник пошли всем миром откапывать Агапа» (XIV). Тем самым и моральная победа Дукача, добытая с таким трудом, также оказалась фиктивной. Богатство и основывавшаяся на нем горделивость не принесли ему счастья. Напротив, они отдалили его и от людей, и от бога.
Роль текстовой оппозиции «Дукач и его племянник Агап» в структуре повести незначительна. Здесь действует простейшая схема «хозяин и слуга» с ее односторонней зависимостью: богатый, самоуверенный, самодостаточный, властный, решительный и fie терпящий каких бы то ни было возражений дядя и безвольный, полностью зависимый от него, на каждом шагу унижаемый им и в конце концов по случайному, роковому стечению обстоятельств убитый им племянник. Социально-функциональный смысл антитезы состоит в том, что всесильный Дукач вынужден был-таки прибегнуть к помощи такого слабого, бесхитростного человека, как Агап, которого он презрительно называл «таким сельским кваком» (III). Здесь моральная победа, основанная на логике реальных событий повествования, остается за Ага- пом, случайно и бессмысленно пристреленным в потемках в пургу его же дядей, когда тот, покорно выполняя свой христианский и родственнический долг, вместе с Керасивной и младенцем застрял в снежных сугробах по пути к иерегудинскому попу.
Керасивиа «еще в дивчинах была бесстрашная самовольница - жила в городах и имела какую-то мудреного вида скляницу с рогатым чертом, которую ей подарил рогачевский дворянин с Покоти, отливавший такие чертовщины в соседней гуте» (VI).
Это женщина умная, хитрая, привыкшая дорожить собственной свободой; «все знали, что она ведьма. Хитрая казачка против этого никогда не спорила, так как это давало ей своего рода апломб: ее боялись, чествовали и, приходя к ней за советами, приносили ей либо копу яиц, либо какой другой пригодный в хозяйстве подарок» (IX).
Вместе с тем у нее много общего и с Дукачом: они оба умны, оба хитры, оба предприимчивы; их обоих люди боятся, хотя и по
разным основаниям, - у них есть «нечто общее» в репутации; при всей кажущейся твердости реалистического восприятия жизни они суеверны; их объединяет некое безотчетное бытовое противостояние «московському», «москалю», что видно, в частности, из следующего диалога между ними накануне выезда Кера- сивны с младенцем и Агапом в Перегуды:
«- Ну так се добре: только смотри, щобы вин нам, выпивши, не испортил хлопца, - не назвал бы его Иваном або Николою.
Ну вот! так я ему дам, щоб христианское дитя да Николой назвать. Хиба я не знаю, что это московськое имя.
То-то и есть: Никола самый москаль».
Именно это общее в отношении к жизни и основанные на нем интуитивные сочувствие и сострадание к Дукачу, отвергнутому односельчанами, приводит Керасивну к осознанному лжесвидетельству по главному делу. Хотя, будучи застигутыми сильной бурей па пути в Перегуды, Керасивна с Агапом не смогли даже доехать до перегудинского попа для крещения младенца, зем не менее, оставшись единственным участником и очевидцем всего произошедшего, она стала твердить, что «дытина крещена, - и зовите его Савкою» (XV).
Что это было осознанное лжесвидетельство, грех, принятый на себя ради такого же «нелюбимого человека», как она сама, подтверждается в корне изменившимся ее поведением после этого события: «Керасивна хотя и поправилась, но все не “сдужала” и сильно изменилась, - все она ходила как не своя. Она стала тиха, грустна и часто задумывалась; и совсем не ссорилась со своим Керасенко, который понять не мог, что такое подеялось с его жинкою?» (XV).
Этим обманом она, как сама понимает, взяла страшный грех на душу. Она отчетливо понимает также, что виновником ее погубленной души является все тот же Дукач, который, по совету Керасивны, жертвует свои «рублевики» на молитвы «за три души»: «Какие это были три души - того Дукач и сам не знал, но так говорила Керасивна, что чрез его ужасный характер пропал не один Агап, а еще две души, про которые знает бог да она - Керасивна, но только сказать этого никому не может» (Там же).
Две другие «пропавшие души» - это, разумеется, сама Керасивна и Савка.
Вынужденное роковое лжесвидетельство, на которое Керасивна пошла из сочувствия Дукачу, преследует ее всю оставшуюся жизнь. Главной ее заботой отныне становится упорство в воспрепятствовании тому, чтобы один роковой обман не повлек за собой других: она пыталась криками и воплями «еще с младенчества» не допускать причащения Савки («Що вы робите! не надо; не носить его... се така дытына... неможна его причащать»- XVIII); когда Савку по обету, данному Дукачихой в благодарность богу за счастливое его спасение в бурю, повезли в монастырь, она «больше трех верст гналась за санями, крича:
Не губите свою душу - не везите его в монастырь, - бо оно к сему не сдатное.
Но ее, разумеется, не послушали, - теперь же, когда пошла речь об определении мальчика в училище, "откуда в ионы выходят”, - с Керасивной сделалась беда: ее ударил паралич, и она надолго потеряла дар слова, который возвратился к ней, когда дитя уже было определено» (Там же).
Когда прошел слух, что Савву, окончившего духовное училище, собираются назначить священником в Паринсы, она тотчас поспешила в губернский город, непрестанно шепча молитвы, обращенные к богу, чтобы он не допустил этого. «Но бог и тут не внял ее молитве». Узнав, что «Савка» - уже нон, «она нала на колени и так на коленях и проползла восемь ----- десять верст до своих Ларине» (Там же).
Хотя старая Керасивна, «давно оставившая все свои слабости, и жила честно и богобоязненно» (XIX), среди односельчан с новой силой возродились толки о том, что она ведьма. Более того, эти толки были ужесточены тем, что использовались вновь назначенным нерегудинским попом, враждовавшим с отцом Саввой, который, как он считал, «хорош за ее помогой», а она же не кается и не может умереть, ибо в Писании сказано: «не хощет бог смерти грешника», но хочет, чтоб он обратился» (Там же). «Ведьму» же обвинили и в том, что «стало у коров молоко пропадать». При этих обстоятельствах «несколько добрых людей» дали слово при нервом же подходящем случае в темном месте ударить ее так, чтобы у нее появилось желание исповедаться. Так и поступили. Умирающая Керасивна, однако, отказывается исповедоваться у отца Саввы («... твоя исповедь не пользует, - хочу
другого попа!» - говорит она) и требует, чтобы ее слушали все: и специально приглашенные перегудинский пан-отец с благочинным, и Савва, и казаки.
В своей исповеди Керасивна рассказывает все, как было, тем самым перед смертью по-христиански освобождается от своей страшной тайны, хотя эта тайна касалась человека, к которому в силу обстоятельств привязалась с первых дней его жизни, к которому, горько плача и прося прощение, обращается со словами «мое серденько, мое милое да несчастливое» (XX).
Это - кульминация повести. Керасивна в конце концов выполнила свой долг, преодолев вес препятствия церковной бюрократии и доказав, что она вовсе не ведьма, а добропорядочная верующая, совершившая грех не по умыслу. Это «момент истины» для нее. Она, таким образом, противостоя всем, защищая устоявшиеся, привычные для нее нормы веры, одерживает моральную победу, возвысившись над личными чувствами и привязанностями, над ходячими общепринятыми представлениями казаков о добром попе Савве из их же рода и о ней самой.
I Іо исповедь Керасивны не имела никаких ожидаемых ею последствий в плане исправления роковых ошибок.
Одна из основных проблем, поставленных в повести, - проблема морали и веры - решается по-разному через выведенные и подробно разработанные в ней образы.
Образ «ведьмы» Керасивны вопреки всем толкам о ней -- это воплощение единства, неразрывности морали и веры, это пример того, что мораль не может противоречить вере, и наоборот, вера не отменяет морали: если совершил грех по вере, то моральный долг согрешившего - признать его и раскаяться, извиниться перед людьми и богом.
Через образ казаков та же проблема решается в пользу прагматически осмысляемой морали, трактуемой как практическая польза, как доброта по отношению к другим независимо от веры. Вновь назначенного в Парипсы отца Савву казаки с радостью принимают не только потому, что он казачьего рода, но потому прежде всего, что он почтителен с матерью и «крестной», он добр, равнодушен к деньгам, демократичен, на деле помогает бедным, больным и сиротам, допускает житейским прагматизмом оправдываемые отступления и «странности» с точки зрения
веры; на пожертвования прихожан вместо храма строит для ребят «светлую хату с растворчатыми окнами», чтобы «учить их грамоте и слову божию» (XIX) и т. д.
В тонкостях веры казаки не искушены, а практические дела, поступки видят и соответствующим образом оценивают. Вот почему они горой встали в защиту отца Саввы, когда узнали, что он как «нехрещеный человик» может быть лишен сана. «Громадой» отправляясь к архиерею на выручку отца Саввы, они хотят одного - чтобы он им «нехрещеного попа оставил», а то они «такие несчастливые», что в турки пойдут и «всей веры решатся» (XXII).
Таким образом, проблема веры здесь едва ли прослеживается, она вполне восполняется моральным понятием о добром, хорошем человеке.
Та же проблема морали и веры в особенном ракурсе предстает в повести в ходе разработки сюжетной линии, связанной со служителями церкви, различающимися по их положению в церковной иерархии: поп благочинный - архиерей. По тексту новее ги попы ближе к простому люду, тесно общаются со своими прихожанами, могут совершать житейские промахи, выпивать, веселиться «по-сельскому, по-домашнему», как ото было на свадьбе дочери священника (газетное известие в повести), писать друг на друга доносы (I, XIX), мстить прихожанам (отец Яков из мести Дукачу отказывается крестить его сына) и друг другу по причине зависти, ревности (новый иерегудинский поп «сочинял нескладицы» на своего иариисяпского соседа Савву - XIX) и г. д. Благочинный следит за их поведением и соблюдением церковных норм в пределах своих полномочий.
То, что считается привычно однозначно толкуемым прихожанами, на разных ступенях церковной иерархии трактуется по- разному. Опираются при этом на цитаты из разных источников и на власть толкователя.
В случае с отцом Саввой «стрелочником» в конечном счете оказывается благочинный, которому первый раз, когда он обратился с вполне мотивированным «доносом» к архиерею, было сделано внушение, а второй раз - был лишен чина, хотя, как видно из текста повести, правда была на его стороне. На его место архиерей поставил того самого «некрещеного попа», кото
рый, по мнению благочинного, опирающегося на установления веры, попом не мог быть по определению.
После такого исхода разбирательства один из наблюдательных казаков из «громады», заметивший, что архиерей в курсе их просьбы до того, как они ее изложили, и что все нужные цитаты для решения «казусного дела» отца Саввы были подготовлены заранее, не без ехидства обращается к архиерею, и следует диалог:
«- А будьте, ваша милость, ласковы отойти со мною до куточка.
Архиерей улыбнулся и говорит:
Иу хорошо, пойдем до куточка.
Тут казак его и спрашивает:
А звольте, ваша милость: звиткиля вы все се узнали, до- преж як мы вам сказали?
А тебе, говори т, - что за дело?
Да там гаке дило, чи се пе Савва ли вас всим надоумив?
Архиерей, которому рассказал его келейник Савва, посмотрел на хохла и говорит:
Ты отгадал, - мне Савва все сказал.
А сам с этим и ушел из залы.
Ну, ту г хлопцы и поняли все, как хотели».
Общая казачья оценка всему случившемуся выражена в следующем обобщенно оформленном ироническом резюме:
« Такий-то, говорят, - наш Савко штуковатый, як подсинился, то таке іювыдумывал, что всех с толку сбил: то от Писания покажет, то от святых отец в нос сунет, так что аж ни чого понять не можно. Бог его святый знає: чи он взаправду попа Савву у Керасивны за пазухою перекрестил, чи только так ловко все закароголыв, що и архиерею не раскрутить. А вышло все на добре, на том ему и снасыби».
Так долгие и драматические усилия верующих в постижении правды о том, как «нехрещеный человик», «не христианин», стал попом, застряли на бюрократических ступенях церковной иерархии, в лабиринте противоречащих друг другу цитат, к каждому случаю целенаправленно и заинтересованно подбираемых служителями церкви из разных и разновременных источников.
Парадокс состоит и в том, что все решения, касающиеся судьбы «некрещеного попа» - отца Саввы, принимаются архиереем
при активнейшем участии и с подачи самого же отца Саввы. В этом случае, как показывает автор повести, вопросы морали и веры и вовсе отступают на второй план.
Для раскрытия общего содержания повести важно хотя бы бегло проследить линию, связанную с тем, где и какое воспитание и образование получил Савва.
Когда младенец Савва, отправленный с Керасивной и Агапом в Перегуды для крещения, был возвращен Дукачихе целым и здоровым после страшной бури, Дукачиха «обрекла его богу».
Савва и воспитывался соответственно, как «оброчное дитя». Сызмальства он стал проявлять богобоязненность, «никогда не разорял гнезд, не душил котят, не сек хворостиной лягушек», «все слабые существа имели в нем защитника», нежно любил мать, «любить бога было для него потребностью и высшим удовольствием»; рос в религиозной обстановке; «из немногих полунамеков знал, что е его рождением связано что-то какое, что изменило весь их домашний быт» (XV).
С восьми лет Савва учи гея у Охрима Гіидпебесіюіо, «необыкновенной жизнью» жившего в Парипеах. Необыкновенность его жизни состояла в том, что принадлежал к новому малороссийскому тину людей, стремившихся к завоеванию «религиозного настроения местного населения». Люди этого нового типа «были какие-то отшельники в миру: они строили себе маленькие хаточки при своих родных домах, где-нибудь в закоулочке, жили чисто и опрятно как душевно, так и во внешности. Они никого не избегали и не чуждались - трудились и работали вместе е семейными и даже были образцами трудолюбия и домовитости, не уклонялись и от беседы, ІЮ во все вносили свой, немножко пуританский, характер. Они очень уважали «наученность», и каждый из них непременно был грамотен; а грамотность эта самым главным образом употреблялась для изучения слова божия, за которое они принимались с пламенною ревностью и благоговением, а также с предубеждением, что оно сохранилось в чистоте только в одной книге Нового завета, а в «преданиях человеческих», которым следует духовенство, - все извращено и перепорчено. Говорят, будто такие мысли внушены им немецкими колонистами, но, по-моему, все равно - кем это внушено, - я знаю только одно, что из этого потом вышла так называемая «штунда» (XVI).
Люди нового малороссийского типа не придерживались богословской догматики и «богослужебных установлений», не стремились к богатству. Главной своей целью они ставили «нравственное воспитание по идеям Иисуса», всячески демонстрируя терпимость по отношению к простым людям, заботясь о продвижении грамоты в народ и тем самым предпринимая реальные шаги в его нравственном совершенствовании.
На таких идеях, чуждых официальных церковных установлений, и вырос отец Савва, способный брать ответственность за свои действия на себя, не боящийся пожертвования на «велыкий дзвин» (большой колокол) тратить на строительство хаты для обучения детей грамоте, чуткий к нуждам больных, сирот, нуждающихся в поддержке добрым словом, основательно «наученный», г. е. начитанный в Писании, предписаниях отцов церкви.
Парипсяне прощают ему все ими замечаемые его многочисленные отступления от укоренившихся норм их казачьей веры только потому, что он хороший, добрый человек, действия и поступки которого понятны, потому что полезны.
Повесть «Некрещеный поп» - эго не только художественное произведение, но и примечательный документ времени, в котором последовательно прослеживается история возникновения и развития протес і ап тского, сектантского, точнее - баптистского религиозного течения в России. На это в повести имеются прямые указания, отсылающие к истокам того типа малороссийских людей, к которым относится и поп Савва, - это «штунда», штундисты (гл. XVI; концовка повести, оформленная в виде устного исторического свидетельства, - гл. XXII). И без учета упомянутых прямых указаний изображенные в ней события по времени, на которое они приходятся, по породившим их социальным причинам и направлениям внешних воздействий удивительно точно совпадают с показаниями научной исторической литературы .
Однако в повести в качестве одной из важнейших причин зарождения «штунды» наряду с социальными факторами и факторами внешнего (немецкого) воздействия разрабатывается тема
удаленности церкви от забот и жизни простых людей, тема церковной бюрократии, равнодушной не только к нуждам этих людей, но и к тем нормам веры, блюстителями которых в представлениях прихожан являются священники. Именно безразличие церкви к реальной жизни прихожан образует ту социальноидеологическую лакуну, которую заполняют представители нового религиозного течения. И делают они это при поддержке и, как показано в повести, даже руками иерархов церкви. Таков функциональный смысл и случая с «газетным известием», послужившим поводом для повествования, и мытарств Керасивпы, так и погибшей, не дождавшись понимания со стороны служителей церкви, и последнего аккордного эпизода, когда архиерей, пользуясь аргументами, подготовленными самим «некрещеным ионом», пе только признает сго, по и назначает на следующую ступень церковной иерархической лестницы вместо того, который упорсі вовал в отстаивании сложившихся и принятых норм церковной жизни. Это, согласно повести, пример кризиса и саморазрушения церкви. Хотя и только зарождающееся, по активное идеологическое течение, будучи отзывчивым к нуждам простых людей, в торгае тся в прос і рапс і во ус тоявшейся идеологии, тесня ее, если опа замыкается в самой себе. Таков один из важнейших уроков религиозно-идеологической истории, которому посвящена повесть Н. С. Лескова.
Повесть замечательна и по своей художественной структуре.
В пей значительны место и роль повторов повторяются одни и те же ситуации, в которые попадают разные персонажи; повторяются повествования об одних и тех событиях, которые ведутся от разных лиц; повторяются времена, в которые происходят события; повторяются отдельные группы слов, выполняющих роль содержательно значимых клише, и г. д.
Так, события, связанные с нссостоявшимся крещением Саввы, в первый раз излагаются рассказчиком - одним из «приятельского кружка». Этот рассказ и есть собственно содержание повести. Второй раз эти события даются в изложении Керасивпы на исповеди в присутствии благочинного, Саввы и казаков. В третий раз о тех же событиях казаки рассказывают архиерею, но сам их рассказ не приводится, а лишь упоминается.
Парипсянские казаки, требующие оставить им попа Савву, отправляются в город к архиерею через тридцать пять лет в то же самое время года и суток, что и Керасивна с сыном Дукача - в Перегуды: «Это опять было зимою и опять было под вечер и как раз около того же Николина или Саввина дня, когда Керасивна тридцать пять лет тому назад ездила из Парипсов в Перегуды крестить маленького Дукачева сына» (XXII).
И казаки, как Керасивна с младенцем, попадают в метель и сбиваются с дороги.
Благочинный дважды обращается к архиерею в поисках правды по церковным нормам, и оба раза оказывается наказанным, хотя правда была на его стороне.
Благочинный но велению архиерея читает две цитаты из двух книг в пользу Саввы, заранее помеченные Саввой же.
Керасивна до исповеди дважды говорит Савве, что он «некрещеный».
Враждуют между собой два иона - парипсяпский и иерегу- дински й.
Из-за ужасного характера Дукача «пропал не один Агап, а еще две души». И т. д.
Достаточно часты повторяющиеся клише типа «московський» ветер, «Николина велыкая московськая хитрость», а также фольклорные обороты «долго ли или коротко это шло», не говоря о мотивах, связанных с чертовщиной, нечистой силой и т. д.
Все это как бы ориентирует читателя на некую сказочную поэтику, сказочный нарратив, фольклорную сферу, что в полной мере согласуется и со ступенчатым названием повести, и в целом с идиостилем писателя.
Они также функционально полярны.
При этом очевидно, что русская речевая стихия в свою очередь опять-таки двуслойна, тем самым бифункциональна. С одной стороны, это речь повествователя, нередко сливающаяся с авторской речью, в которую облекается сам событийный ряд, объективное течение повествования. С другой стороны, это речь персонажей - преимущественно «штундистов», а также служи-
телей церкви, к которым казаки обращаются в поисках ответов на волнующие их вопросы. Именно эта последняя и антитетична украинской речевой стихии.
Украинская речь, звучащая в устах простого люда, прихожан, казаков, как бы бесхитростна, непосредственна, прямодушна, реализуется почти исключительно в диалогах, устремлена к постижению правды. Русская же речь, вложенная, в частности, в уста церковных чиновников, противостоит ей в противодействии постижению истины, связанной с выяснением статуса «некрещеного попа».
Эта оппозиция последовательно реализована на образе Керасивны, погибающей ради правды о «нехрещеном попе».
Та же оппозиция аккордно завершает повесть, в заключительной части которой казаки по-своему, немудрено дают общую собственную оценку не только архиерею, который, используя казуистику цитат, вершит судьбами подчиненных ему людей, ио и попу Савве, перед которым даже «московський Никола со всей своей силою ни при чем остался».
Таким образом, чередующиеся в повести украинская и русская речевые стихии оказываются ролевыми, выполняя одновременно и функции средств выражения, изображения, и функции объектов изображения, персонажные функции.
В этом также состоит одна из существенных особенностей творческого метода IT С. Лескова, который, максимально объективируя слово, языковые факты как данности, призывасі читателя глубже вникать в их смысл, вслушиваться в их музыку с гем, чтобы попять актуализируемый ими мир представлений.
Идейно-эстетическое своеобразие творчества Николая Семёновича Лескова (1831 - 1895) прежде всего определя-ется религиозно-нравственными основами мировидения писателя. Причастный к священническому роду, получивший воспитание в православной религиозной среде, с которой он был связан наследственно, генетически, Лесков неиз-менно стремился к истине, сохранённой русской отеческой верой. Писатель горячо ратовал за восстановление «духа, который приличествует обществу, но-сящему Христово имя». Свою религиозно-нрав-ственную позицию он заявлял прямо и недвусмысленно: «я почитаю христианство как учение и знаю, что в нём спасение жизни, а всё остальное мне не нужно».
Тема духовного преображения, восстановления «падшего образа» (согласно рождественскому де-визу: «Христос рождается прежде падший восставити образ») особенно волновала писателя на протяжении всего его творческого пути и нашла яркое выражение в таких шедеврах, как «Соборяне» (1872), «Запечатленный Ангел» (1873), «На краю света» (1875), в цикле «Святочные рассказы» (1886), в рассказах о праведниках.
Лесковская повесть «Некрещёный поп» (1877) особенно пристального вни-мания отечественных литературоведов не привлекала. Произведение относили чаще к роду малороссийских «пейзажей» и «жанров», «полных юмора или хотя бы и злой, но весёлой искрящейся сатиры». В самом деле, чего стоят эпизодические, но необыкновенно колоритные образы местного диакона - «любителя хореогра-фического искусства», который «весёлыми ногами» «отхватал перед гостями трепака» , или же незадачливого казака Керасенко: тот всё безуспешно пытался уследить за своей «бесстрашной самовольницей» - жинкой.
В зарубежной Лесковиане итальянская исследовательница украинского происхождения Жанна Петрова подготовила перевод «Некрещёного попа» и предисловие к нему (1993). Ей удалось установить связи лесковской повести с традицией народного украинского райка.
По мнению американского исследователя Хью Маклейна, малороссийский фон повести не более чем камуфляж - часть лесков-ского метода «литературной отговорки», «многоуровневая маскировка», намотан-ная «вокруг ядра авторской идеи». Англоязычные учёные Хью Маклейн, Джеймс Макл в основном пытались приблизиться к произведению «через протес-тантский спектр», полагая, что «Некрещёный поп» - яркая демонстрация протес-тантских воззрений Лескова, который, по их мнению, начиная с 1875 года, «решительно перемещается в сторону про-тестантизма».
Однако преувеличивать внимание писателя к духу западной религиозности не следует. По этому поводу Лесков высказался вполне определённо в статье «Карикатурный идеал» в 1877 году - тогда же, когда был создан «Некрещёный поп»: «не гоже нам искати веры в нем-цах» . Писатель приложил много усилий, вы-ступая с призывом к веротерпимости, чтобы «расположить умы и сердца соотечественников к мягкости и уважению религиозной свободы каждого», однако придерживался того мнения, что «своё - роднее, теплее, уповательнее».
По точному слову исследователя, Лесков явил «гениальное чутьё к Православию», в котором вера «осердечена» любовью к Богу и «невыразимым знанием», полученным в духе. Что касается протестантизма, то «он вообще снимает проблему и необходи-мость внутренней невидимой брани с грехом, нацеливает чело-века на внешнюю практическую деятельность как на основное содержание его бытия в мире». Знаменателен момент в очерке Лескова «Рус-ское тайнобрачие» (1878), когда православный батюшка подаёт «греш-ной» женщине надежду на Божье прощение, напоминая, что он не католический священ-ник, кото-рый мог бы её упрекнуть, и не протестантский пастор, который при-шёл бы в ужас и отчаяние от её греха.
В связи с задачами данной статьи важно прояснить, с каких позиций писа-тель рисует судьбы своих героев, образ их мыслей, поступки; как трактует сущность человеческой личности и мироздания. «Невероятное событие», «леген-дарный случай» - как определил автор в подзаголовке свою повесть - имеет также и название парадоксальное - «Некрещёный поп». Неслучайно Андрей Николаевич Лесков - сын писателя - определил это заглавие как удивительно «смелое». На поверхностный догматический взгляд, может показаться, что здесь заявлен «антикрестильный мо-тив», отвержение церковных таинств. Именно этого мнения придерживается Хью Маклейн.
Однако такому субъективному толкованию противостоит объективная ис-тина всего художественно-смыслового наполнения произведения, которое продолжает развитие темы, заявленной Лесковым ранее в повестях «На краю света» (1875) и «Владычный суд» (1877), - темы необходимости крещения не формального («Во Христа крестимся, да не облекаемся»), а ду-ховного, вверенного Божьей воле.
Сокровенный смысл Православия определяется не только катехизисом. Это также «и образ жизни, мировосприятие и миропони-мание народа». Именно в таком недогматическом смысле рассматривает Лесков «действительное, хотя и невероятное событие», получившее «в народе характер вполне законченной легенды; <...> а проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, «как делается история»».
Таким образом, эстетически и концептуально Лесков соединяет действитель-ность и легендарность, которые переплавляются в вечно новую реальность исторического и сверхисторического, подобно «полноте времён», заповеданной в Евангелии.
Сходное сакральное время с необычными формами протекания присуще поэтике гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и - в особенности - святочному шедевру «Ночь перед Рождеством» . Христианский праздник показан как своеобразное состояние целого мира. Малороссийское село, где празднуются святки, ночью под Рождество становится как бы центром всего белого света: «во всём почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки».
Гоголь не может быть адекватно понят вне церковной традиции, святоотеческого наследия, русской духовности в целом. Лесков - один из наиболее близких Гоголю по духу русских классиков. По его признанию, он узнавал в Гоголе «родственную душу». Гоголевское художественное наследие было для Лескова живым вдохновляющим ориентиром, и в повести «Некрещёный поп» эта традиция вполне различима - не только и не столько в воссоздании малороссийского колорита, сколько - в осмыслении личности и мироздания сквозь новозаветную призму. И Гоголь, и Лесков никогда не расставались с Евангелием. «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии», - говорил Гоголь. Лесков был солидарен с этой мыслью и развивал её: «В Евангелии есть всё, даже то, чего нет». «Один только исход общества из нынешнего положения - Евангелие» , - пророчески утверждал Гоголь, призывая к обновлению всего строя жизни на началах христианства. «Хорошо прочитанное Евангелие» помогло, по лесковскому признанию, окончательно уяснить, «где истина».
Стержнем художественного осознания мира в повести становится Новый Завет, в котором, по выражению Лескова «сокрыт глубочайший смысл жизни ». Новозаветная концепция обусловила ведущее начало в формировании хри-стианской пространственно-временной организации повести, в основе которой события, восходящие к еван-гельским. Среди них особо отмечены православные праздники Рождества, Крещения, Воскресения, Преображения, Успения. Евангельский контекст не только задан, но и подразумевается в сверхфабульной реальности произведения.
Замысловатая история казусного дела о «некрещёном попе» разворачива-ется под пером Лескова неспешно, как свиток древнего летописца, но в итоге по-вествование принимает «характер занимательной легенды новейшего происхож-дения».
Жизнь малороссийского села Парипсы (название, возможно, собиратель-ное: оно часто встречается также в современной украинской топонимике) пред-стаёт не в виде замкнутого изолированного пространства, но как особое состояние мироздания, где в сердцах людей извечно разворачиваются битвы между Ангелами и демонами, ме-жду добром и злом.
Первые пятнадцать глав повести строятся по всем канонам святочного жанра с его непременными архетипами чуда, спасения, дара. Рождение мла-денца, снег и метельная путаница, путеводная звезда, «смех и плач Рождества» - эти и другие святочные мотивы и образы, восходящие к евангельским собы-тиям, наличествуют в повести Лескова.
В рождении мальчика Саввы у престарелых бездетных родителей явлена заповеданная в Евангелии «сверх надежды надежда». Господь не позволяет отчаяться верующему человеку: даже в самых безнадёжных обстоятельствах существует надежда на то, что мир будет преображён по Божией благодати. Так, Авраам «сверх надежды поверил с надеждою, чрез что сделался отцом многих на-родов <...> И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столет-него, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении» (Рим. 4: 18, 19), «Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем не в отношении к нему одному напи-сано, что вменилось ему, Но и в отношении к нам» (Рим. 4: 22 - 24). Эта христи-анская универсалия - вне временных и пространственных границ - реализуется в лесковском повествовании о жизни малороссийского села.
Старый богатый казак по прозвищу Дукач - отец Саввы - вовсе не отличался праведностью. Напротив - его прозвище означало «человек тяжёлый, сварливый и дерзкий», которого не любили и боялись. Более того, его негативный психологический портрет дополняет ещё одна неприглядная черта - непомерная гордыня - согласно святоотеческому учению, мать всех пороков, происходящая от бесовского наущения. Одним выразительным штрихом автор подчёркивает, что Дукач почти одержим тёмными силами: «при встрече с ним открещивались», «он, будучи от природы весьма умным человеком, терял самообладание и весь рассу-док и метался на людей, как бесноватый».
В свою очередь односельчане желают грозному Дукачу только зла. Таким образом, все на-ходятся в порочном и суетном кругу взаимного недоброжелательства: «думали, что небо только по непонятному упущению коснит давно разразить сварливого казака вдребезги так, чтобы и потроха его не осталось, и всякий, кто как мог, охотно бы постарался поправить это упущение Промысла».
Однако чудо Божьего Промысла неподвластно людскому суемыслию и свершается своим чередом. Бог дарует Дукачу сына. Обстоятельства рождения мальчика соприродны атмосфере Рождества: «в одну морозную декабрьскую ночь <...> в священных муках родового страдания явился ребёнок. Новый жилец этого мира был мальчик». Его облик: «необыкновенно чистенький и красивый, с черною головкою и большими голубыми глазами» - обращает к образу Божественного Младенца - пришедшего на землю Спасителя, «ибо Он спасёт лю-дей Своих от грехов их» (Мф. 1: 21).
В Парипсах ещё не ведали, что новорождённый послан в мир с особой мис-сией: он станет священником их села; проповедью Нового Завета и примером доброго жития будет отвращать людей от зла, просветлять их разум и сердце, об-ращать к Богу. Однако в своей косной суетности люди, живущие страстями, не в состоянии провидеть Божий Промысел. Ещё до рождения младенца, который впо-следствии стал их любимым «добрым попом Саввою», односельчане возненави-дели его, считая, «що то буде дитына антихристова», «зверовидного уродства». Повитуху же Керасивну, которая «клялась, что у ребёнка нет ни рожков, ни хвостика, оплевали и хотели побить». Также никто не пожелал крестить сына злобного Дукача, «а дитя всё-таки осталось хорошенькое-прехорошенькое, и к тому же ещё удивительно смирное: дышало себе потихонечку, а кричать точно стыдилось».
Так, бытие предстаёт в сложном переплетении добра и зла, веры и суеве-рий, представлений христианских и полуязыческих. Однако Лесков никогда не призывал отвернуться от действительности во имя единоличного спасения. Писатель сознавал, что бытие - благо, и точно так же, как Божественный образ в человеке, данный ему в дар и задание , бытие не просто дано Творцом, но задано как сотворчество: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14: 27), - говорит Христос, заповедуя «венцу творения» самому творить. Начинать этот процесс преображения, созидания человеку необходимо именно с себя самого.
Промыслительны обстоятельства крещения героя. Поскольку никто из ува-жаемых на селе людей не согласился крестить Дукачонка, крёстными родителями будущего попа опять-таки парадоксальным образом стали люди, казалось бы, не-достойные: один с внешним уродством - скособоченный «кривошей» Агап - племянник Дукача; другая - с недоброй репутацией: повитуха Керасивна, которая «была самая несомненная ведьма».
Однако Керасивна вовсе не похожа на Солоху го-голевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки», хотя ревнивый казак Керасенко и подозревает жену в намере-ниях временами «лететь в трубу». Имя у неё подчёркнуто христианское - Христина.
История Христи - это самостоятельная курьёзная новелла внутри основного святочного повествования об обстоятельствах рождения и крещения младенца Саввы. При святочных обстоятельствах «зимою, под вечер, на праздниках, когда никакому казаку, хоть бы и самому ревнивому невмочь усидеть дома», Керасивна сумела хитроумно провести мужа со своим ухажёром-дворянином (не зря он прозывается «рогачёвский дворянин», то есть наставляет мужьям «рога»). В переносном и прямом смысле любовники подложили незадачливому казаку свинью - рождественского «по-рося», и это укрепило за Христей «такую ведьмовскую славу, что с сей поры всяк боялся Керасивну у себя в доме видеть, а не только в кумы её звать».
Сбывается евангельская антиномия о «первых» и «последних»: «последние станут первыми, и первые - последними». Именно таких «последних» людей вынужден был пригласить надменный Дукач себе в кумовья.
В студёный декабрьский день сразу же после отъезда крёстных с младенцем в большое село Перегуды (известное впоследствии читателям по «прощальной» повести Лескова «Заячий ремиз») разыгралась жестокая снежная буря. Мотив свя-точного снега - устойчивый атрибут поэтики рождественской ли-тературы. В данном контексте он обретает дополнительный метафизический смысл: словно недобрые силы сгущаются вокруг ребёнка, которому все и без всякой причины заранее желали зла: «Небо сверху заволокло свинцом; понизу завеялась снежистая пыль, и пошла лютая метель». В метафорической образности - это во-площение тёмных страстей и злых помыслов, которые разыгрались вокруг события крещения: «Все люди, желавшие зла Дукачёву ребёнку, видя это, на-божно перекрестились и чувствовали себя удовлетворёнными». Подобная ханжески-показная набожность, основанная на суемудрии, равно-ценна дьявольской силе «от лукавого».
В святоотеческом наследии проводится мысль о том, что Бог сотворил че-ловека и всё, что его окружает, таким образом, что одни поступки соответствуют человеческому достоинству и благому устроению мира, другие - противоречат. Человек был наделён способностью познавать добро, избирать его и поступать нравственно. Уступая злым помыслам, сельчане как бы спровоцировали, выпустили наружу тёмные силы, разыгравшиеся, чтобы воспрепятствовать событию креще-ния. Вовсе не случайно поэтому метельную путаницу Лесков определяет как «ад», создавая по-настоящему инфернальную картину: «на дворе стоял настоящий ад; буря сильно бушевала, и в сплошной снежной массе, которая тряслась и веялась, невозможно было перевести дыхание. Если таково было близ жилья, в затишье, то что должно было происходить в открытой степи, в которой весь этот ужас должен был застать кумовьёв и ре-бёнка? Если это так невыносимо взрослому человеку, то много ли надо было, чтобы задушить этим дитя?». Вопросы поставлены ри-торические, и, каза-лось бы, судьба младенца была предрешена. Однако события развиваются по внерациональным законам святочного спасения чудом Божьего Промысла.
Ребёнок спасается на груди у Керасивны, под тёплой заячьей шубой, «кры-той синею нанкою». Глубоко символично, что шуба эта синего - небесного - цвета, который знаменует Божие заступничество. Более того - младенец был сохранён, как у Христа «за пазушкой». Этот православный уповательный образ «русского Бога, Который творит Себе обитель «за пазушкой»», сложился у Лескова ещё в повести «На краю света» - в исповедании праведного отца Кириака, которому так же, как и героям «Некрещёного попа», выпало пройти че-рез стужу и непроглядный мрак снежного урагана.
Особенностью святок является «карнавальное нарушение привычного строя мира, возвращение к первоначальному хаосу с тем, чтобы из этого разброда как бы вновь родился гармоничный космос, «повторился» акт творения мира». Ме-тельная путаница и хаос в святочной символике неизбежно преоб-разуются в гармонию Божьего мироустроения.
Однако гармония достигается только на путях преображения падшей чело-веческой природы. Так, вокруг Дукача, вынужденного признать, что он никогда и никому не сделал добра, сгущаются ужасающие атрибуты смерти. Не сумев отыскать сына, он попадает в страшные сугробы и долго сидит в этой снежной темнице в сумраке метели. Словно прегрешения всей своей непра-ведной жизни, Дукач видит только ряд «каких-то длинных-предлинных привиде-ний, которые точно хоровод водили вверху над его головою и сыпали на него сне-гом».
Эпизод блужданий героя в метельном мраке следует трактовать в христи-ан-ском метасемантическом контексте. Особенно знаменателен образ креста. Забредя в темноте на кладбище, Дукач натыкается на крест, затем - на другой, на третий. Господь как бы даёт герою отчётливо понять, что своего креста он не избежит. Но «ноша крестная» - это не только бремя и тягость. Это и путь к спасению.
В это же самое время в снежном буране происходило крещение его сына: занесён-ные метелью крёстные начертали на лобике ребёнка расталою снежною водою символ креста - «во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». Родился новый христиа-нин. Кровный отец и сын объединились духовно. Из снежного «ада» обоих спасает крест Отца Небесного.
Старый Дукач до поры об этом не ведает. Он пока слеп духовно. Заплу-тавшая душа, тяжело и долго путаясь во тьме, ищет дорогу, свой путь к свету. Герой повести ещё надеется выбраться, разглядев сквозь снежный буран какое-то слабое мерцание. Однако этот обманчивый земной блуждающий огонёк окончательно сбивает его с жизненного пути: Дукач сваливается в чью-то могилу и теряет сознание.
Необходимо было пройти через это испытание, чтобы мир преобразился от хаоса к гармоничному космосу. Очнувшись, герой увидел мир, рождённым заново, обновлённым: «вокруг него совершенно тихо, а над ним синеет небо и стоит звезда». В новозаветном контексте Вифлеемская путеводная звезда указала волхвам путь к Младенцу-Христу. Так и Дукач отыскал своего сына. Для старого греш-ника постепенно начал открываться небесный свет истины: «буря заметно утихла, и на небе вызвездило».
В то же время Лесков справедливо показывает, что нетвёрдые в вере люди не в состоянии освободиться от представлений полуязыческих. Дукача, случайно упавшего в чью-то могилу, жена подговаривает принести Богу жертву - убить хоть овцу или зайца, дабы охранить себя от последствий недоброго знака. Происходит профанирующее, как в кривом зеркале, исполнение христиан-ского обряда на языческий лад: «необходимое» жертвоприношение - случайное убийство безответного сироты Агапа, посланного крестить ребёнка и заметённого снегом. Из сугроба торчала только его меховая шапка из смушек - шерсти ягнёнка, которую Дукач и принял за зайца. Так, вместе с образом забитого Агапа входит в повествование святочный мотив ребёнка-сироты, а также своеобразное явление святочной литературы, именуемое «смех и плач Рождества». Агап в овечьей шапке невольно сыграл роль традиционного жертвенного животного, безропотного «агнца Божия», отданного на заклание.
Проблема осознания ужаса греха и глубокого покаяния поставлена в по-вести очень остро. Покаяние считается «дверью, которая выводит человека из тьмы и вводит в свет», в новую жизнь.
Согласно Новому Завету, жизнь постоянно обновля-ется, изменяется, хотя для человека это может быть нежданно и непредсказуемо. Так, мы видим совершенно нового Дукача, новую Керасивну, совсем не по-хожую на прежнюю молодцеватую казачку, а притихшую, смиренную; внутренне обновлённых жителей села. Всё свершившееся для Дукача послужило «ужасным уроком», «и Дукач его отлично принял. Отбыв своё формальное покаяние, он по-сле пяти лет отсутствия из дому пришёл в Парипсы очень добрым стариком, всем повинился в своей гордости, у всех испросил себе прощение и опять ушёл в тот монастырь, где каялся по судебному решению».
Мать Саввы дала обет посвятить сына Богу, и ребёнок «рос под кровом Бога и знал, что из рук Его - его никто не возьмёт». В церковном служении отец Савва - настоящий православный батюшка, мудрый и участливый к своим прихожанам, а не проводник протестантских идей в русской церкви (каким он ви-дится англоязычным исследователям). Лесков подчёркивает: «вокруг его села кругом штунда <христианское движение, берущее начало в протестантизме немецких эмигрантов на Украине. А.Н.-C.>, а в его малой церковке всё ещё полно народу...». Образ мыслей лесковских героев определяется традициями православ-ного мировосприятия, и это обусловливает идейно-художественное своеобразие повести.
Как гласит народная мудрость: «Каков поп - таков и приход». Даже когда открылась тайна крещения Саввы и у прихожан возник страшный переполох: если их поп некрещён, имеют ли силу браки, крестины, причастия - все таинства, им совершённые, - всё-таки казаки «другого попа не хотят, пока жив их добрый Савва». Недоумения разрешает архиерей: пусть обряд крещения и не был совершен по всей «форме», однако же крёстные «расталою водою того облака крест мла-денцу на лице написали во имя святой Троицы. Чего же тебе ещё надо? <...> А вы, хлопцы, будьте без сомнения: поп ваш Савва, который вам хорош, и мне хорош, и Богу приятен».
Следует согласиться с позицией итальянского учёного Пьеро Каццолы в том, что Савва принадлежит к лесковскому типу праведников-священнослужителей наряду с протопопом Савелием Туберозовым в «Соборянах» и архиепископом Нилом в повести «На краю света».
Важнейшей для Лескова становится идея жизнетворчества, жизнестрои-тельства в гармоническом синтезе мирского и священного. В христианской модели мира человек пребывает не во власти языческого «слепого случая» или античного «фатума», но во власти Божественного Провидения. Писатель постоянно обращал свой взор к вере, Новому Завету: «Дондеже свет имате
→ → → Некрещеный поп - чтение
Эта краткая запись о действительном, хотя и невероятном событииНекрещеный поп
посвящается мною досточтимому ученому, знатоку русского слова, не потому,
чтобы я имел притязание считать настоящий рассказ достойным внимания как
литературное произведение. Нет; я посвящаю его имени Ф. И. Буслаева потому,
что это оригинальное событие уже теперь, при жизни главного лица, получило в
народе характер вполне законченной легенды; а мне кажется, проследить, как
складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, "как делается
история".I
В своем приятельском кружке мы остановились над следующим газетным
известием:
"В одном селе священник выдавал замуж дочь. Разумеется, пир был на
славу, все подпили порядком и веселились по-сельскому, по-домашнему. Между
прочим, местный диакон оказался любителем хореографического искусства и,
празднуя веселье, "веселыми ногами" в одушевлении отхватал перед гостями
_трепака_, чем всех привел в немалый восторг. На беду на том же пиру был
благочинный, которому такое деяние диакона показалось весьма оскорбительным,
заслуживающим высшей меры взыскания, и в ревности своей благочинный
настрочил донос архиерею о том, как диакон на свадьбе у священника "ударил
трепака". Архиепископ Игнатий, получив донос, написал такую резолюцию:
"Диакон N "_ударил трепака_"...
Но _трепак_ не просит;
Зачем же благочинный доносит?
Вызвать благочинного в консисторию и допросить".
Дело окончилось тем, что доноситель, проехав полтораста верст и немало
израсходовав денег на поездку, возвратился домой с внушением, что
благочинному следовало бы на месте словесно сделать внушение диакону, а не
заводить кляуз из-за _одного_ - и притом исключительного случая".
Когда это было прочитано, все единогласно поспешили выразить полное
сочувствие оригинальной резолюции пр. Игнатия, но один из нас, г. Р.,
большой знаток клирового быта, имеющий всегда в своей памяти богатый запас
анекдотов из этой своеобычной среды, вставил:
- Хорошо-то это, господа, пускай и хорошо: благочинному действительно
не следовало "заводить кляуз из-за _одного_, и притом исключительного
случая"; но случай случаю рознь, и то, что мы сейчас прочитали, приводит мне
на память другой случай, донося о котором, благочинный поставил своего
архиерея в гораздо большее затруднение, но, однако, и там дело сошло с рук.
Мы, разумеется, попросили своего собеседника рассказать нам его
затруднительный случай и услыхали от него следующее:
- Дело, о котором по вашей просьбе надо вам рассказывать, началось в
первые годы царствования императора Николая Павловича, а разыгралось уже при
конце его царствования, в самые суматошные дни наших крымских неудач. За
тогдашними, большой важности, событиями, которые так естественно овладели
всеобщим вниманием в России, казусное дело о "некрещеном попе" свертелось
под шумок и хранится теперь только в памяти остающихся до сих пор в живых
лиц этой замысловатой истории, получившей уже характер занимательной легенды
новейшего происхождения.
Так как дело это в своем месте весьма многим известно и главное лицо, в
нем участвующее, до сих пор благополучно здравствует, то вы должны меня
извинить, что я не буду указывать место действия с большою точностию и стану
избегать называть лица их настоящими именами. Скажу вам только, что это было
на юге России, среди малороссийского населения, и касается некрещеного попа,
отца Саввы, весьма хорошего, благочестивого человека, который и до сих пор
благополучно здравствует и священствует и весьма любим и начальством и своим
мирным сельским приходом.
Кроме собственного имени отца Саввы, которому я не вижу нужды давать
псевдоним, все другие имена лиц и мест я буду ставить иные, а не
действительные.
II
Итак, в одном малороссийском казачьем селе, которое мы, пожалуй,
назовем хоть Парипсами, жил богатый казак Петро Захарович, по прозвищу
Дукач. Человек он был уже в летах, очень богатый, бездетный и
грозный-прегрозный. Не был он _мироедом_ в великорусском смысле этого слова,
потому что в малороссийских селах мироедство на великорусский лад
неизвестно, а был, что называется, _дукач_ - человек тяжелый, сварливый и
дерзкий. Все его боялись и при встрече с ним открещивались, поспешно
переходили на другую сторону, чтобы Дукач не обругал, а при случае, если его
сила возьмет, даже и не побил. Родовое его имя, как это нередко в селах
бывает, всеми самым капитальным образом было позабыто и заменено уличною
кличкою или прозвищем - "Дукач", что выражало его неприятные житейские
свойства. Эта обидная кличка, конечно, не содействовала смягчению нрава
Петра Захарыча, а, напротив, еще более его раздражала и доводила до такого
состояния, в котором он, будучи от природы весьма умным человеком, терял
самообладание и весь рассудок и метался на людей, как бесноватый.
Стоило завидевшим его где-нибудь играющим детям в перепуге броситься
вроссыпь с криком: "ой, лышенько, старый Дукач иде", как уже этот перепуг
оказывался не напрасным: старый Дукач бросался в погоню за разбегающимися
ребятишками со своею длинною палкою, какую приличествует иметь в руках
настоящему степенному малороссийскому казаку, или с случайно сорванною с
дерева хворостиною. Дукача, впрочем, боялись и не одни дети: его, как я
сказал, старались подальше обходить и взрослые, - "абы до чого не
прычепывея". Такой это был человек. Дукача никто не любил, и никто ему не
сулил ни в глаза, ни за глаза никаких благожеланий, напротив, все думали,
что небо только по непонятному упущению коснит давно разразить сварливого
казака вдребезги так, чтобы и потроха его не осталось, и всякий, кто как
мог, охотно бы постарался поправить это упущение Промысла, если бы Дукачу,
как назло, отвсюду незримо "не перло счастье". Во всем ему была удача - все
точно само шло в его железные руки: огромные стада его овец плодились, как
стада Лавановы при досмотре Йакова. Для них уже вблизи и степей недоставало;
половые круторогие волы Дукача сильны, рослы и тоже чуть не сотнями пар
ходили в новых возах то в Москву, то в Крым, то в Нежин; а пчелиная пасека в
своем липняке, в теплой запуши была такая, что колодки надо было считать
сотнями. Словом, богатство по казачьему званию - несметное. И за что все это
бог дал Дукачу? Люди только удивлялись и успокоивали себя тем, что все это
не к добру, что бог, наверное, этак "манит" Дукача, чтобы он больше
возвеличался, а потом его и "стукнет", да уж так стукнет, что на всю околицу
слышно будет.
Ждали добрые люди этой расправы над лихим казаком с нетерпением, но
годы шли за годами, а бог Дукача не стукал. Казак все богател и кичился, и
ниоткуда ничто ему достойное его лютовства не угрожало. Общественная совесть
была сильно смущена этим. Тем более что о Дукаче нельзя было сказать, что
ему отплатится на детях: детей у него не было. Но вот вдруг старая Дукачиха
стала чего-то избегать людей, - она конфузилась, или, по-местному,
"соромылась" - не выходила на улицу, и вслед за тем по околице разнеслась
новость, что Дукачиха "непорожня".
Умы встрепенулись, и языки заговорили: давно утомленная ожиданием
общественная совесть ждала себе близкого удовлетворения.
- Що то буде за дитына! що то буде за дитына антихристова? И чи воно
родыться, чи так и пропаде в жывоти, щоб ему не бачыть билого свиту!
Ждали этого все с нетерпением и, наконец, дождались: в одну морозную
декабрьскую ночь в просторной хате Дукача, в священных муках родового
страдания, явился ребенок.
Новый жилец этого мира был мальчик, и притом без всякого зверовидного
уродства, как хотелось всем добрым людям; а, напротив, необыкновенно
чистенький и красивый., с черною головкою и большими голубыми глазками.
Бабку Керасиху, которая первая вынесла эту новость на улицу и клялась,
что у ребенка нет ни рожков, ни хвостика, оплевали и хотели побить, а дитя
все-таки осталось хорошенькое-прехорошенькое, и к тому же еще удивительно
смирное: дышало себе потихонечку, а кричать точно стыдилось.
III
Когда бог даровал этого мальчика, Дукач, как выше сказано, был уже
близок к своему закату. Лет ему в ту пору было, может быть, более
пятидесяти. Известно, что пожилые отцы горячо принимают такую новость, как
рождение первого ребенка, да еще сына, наследника имени и богатства. И Дукач
был этим событием очень обрадован, - но выражал это, как позволяла ему его
суровая натура. Прежде всего он призвал к себе жившего у него бездомного
племянника по имени Агапа и объявил ему, чтобы он теперь уже не дул губу на
дядино наследство, потому что теперь уже бог послал к его "худоби"
настоящего наследника, а потом приказал этому Агапу, чтобы он сейчас же
снарядился в новый чепан и шапку и готовился, чуть забрезжит заря, идти с
посылом до заезжего судейского паныча и до молодой поповны - звать их в
кумовья.
Агапу тоже уже было лет под сорок, но он был человек загнанный и
смотрел с виду цыпленком с зачичкавшеюся головенкою, на которой у него сбоку
была пресмешная лысина, тоже дело руки Дукача.
Когда Агап в отрочестве осиротел и был взят в Дукачев дом, он был живой
и даже шустрый ребенок и представлял для дяди ту выгоду, что знал грамоте.
Чтобы не кормить даром племянника, Дукач с первого же года стал посылать его
со своими чумаками в Одессу. И когда Агап один раз, возвратясь домой, сдал
дяде отчет и показал расход на новую шапку, Дукач осердился, что тот смел
самовольно сделать такую покупку, и так жестоко побил парня по шее, что она
у него очень долго болела и потом навсегда немножко скособочилась; а шапку
Дукач отобрал и повесил на гвоздь, пока ее моль съест. Кривошей Агап ходил
год без шапки и был у всех добрых людей "посмихачем". В это время он много и
горько плакал и имел досуг надуматься, как помочь своей нужде. Сам он уже
давно отупел от гонений, но люди наговорили ему, что он мог бы с своим
дядьком справиться, только не так просто, через прямоту, а через "полытыку".
И именно через такую политику, тонкую, чтобы шапку купить, а расход на нее
не показывать, а так "расписать" те деньги где-нибудь понемножечку, по
другим статьям. А ко всему этому на всякий случай, идучи к дяде, взять самое
длинное полотенце да в несколько раз обмотать им себе шею, чтобы если Дукач
станет драться, то не было бы очень больно. Агап взял себе на ум эту науку,
и вот через год, когда дядя погнал его опять в Нежин, он ушел без шапки, а
вернулся и с отчетом и с шапкою, которой ни в каких расходах не значилось.
Дукач спервоначала этого и не заметил и даже было похвалил племянника,
сказав ему: "Треба б тебе побиты, да ни за що". Но тут бес и дернул Агапа
показать дядьку, как несправедлива на свете человеческая правда! Он
попробовал, хорошо ли у него намотано на шее длинное полотенце, которое
должно было служить для его политических соображений, и, найдя его в добром
порядке, молвил дяде:
- Эге, дядьку, добре! ни за що биты! Ось така-то правда на свити?
- А яка ж правда?
- А ось яка правда: выбачайте, дядьку. - И Агап, щелкнув по бумажке,
сказал: - нема тут шапки?
- Ну, нема, - отвечал Дукач.
- А от же и есть шапка, - похвалился Агап и насадил набекрень свою
новую франтовскую шапку из решетиловских смушек.
Дукач посмотрел и говорит:
- Добра шапка. А ну, дай и мени помирять.
Надел на себя шапку, подошел к осколку зеркальца, вправленному в
досточку, оклеенную яркою пестрою бумажкою, тряхнул седою головой и опять
говорит:
- А до лиха, бачь и справди така добрая шапка, що хоть бы и мени, то
было б добре в ии ходыти.
- А ничего соби, добре б було.
- И де ты ии, вражий сын, украв?
- Що вы, дядьку, на що я буду красты! - отвечал Агап, - нехай от сего
бог бороныть, я зроду не крав.
- А де ж ты ии ухопыв?
Но Агап ответил, что он совсем шапки не хапал, а так себе, просто ее
достал через полытыку.
Дукачу это показалось так смешно и невероятно, что он рассмеялся и
сказал:
- Да ну, годи вже тебе дурню: де таки тоби робыть полытыку?
- А от же и сробыв.
- Ну, мовчи.
- Ей-богу, уделал.
Дукач только молча погрозил ему пальцем: но тот стоит на своем, что он
"полытыку уделал".
- И де в черта, та пыха у тебя взялась в голози, - заговорил Дукач, -
де же сему дилу буть, щобы ты, такий сельский квак, да в Нежине мог полытыку
делать.
Но Агап стоял на своем, что он действительно уделал полытыку.
Дукач велел Агапу сесть и все как есть про сделанную им политику
рассказывать, а сам налил себе в плошку сливяной наливки, запалил люльку и
приготовился долго слушать. Но долго слушать было нечего. Агап повторил дяде
весь свой отчет и говорит:
- Нема тут-шапки?
- Ну, нема, - отвечал Дукач.
- А вот же тут и есть шапка!
И он открыл, что именно, сколько копеек и в какой расходной статье им
присчитано, и говорил он все это весело, с открытою душою и с полною
надеждою на туго намотанное на шее полотенце; но тут-то и случилась самая
непредвиденная неожиданность: Дукач, вместо того чтобы побить племянника по
шее, сказал:
- Ишь ты и справди якый полытык: украв, да и шию закрутыв, щоб не
больно було. Ну так я же тоби дам другую полытыку, - и с этим он дернул клок
волос, замерший у него в руке.
Так кончилась эта политическая игра дяди с племянником и, сделавшись
известной на селе, укрепила за Дукачом еще более твердую репутацию, что этот
человек "як каминь" - ничем его не возьмешь: ни прямотою, ни политикою,
IV
Дукач всегда жил одиноко: он ни к кому не ходил, да и с ним никто не
хотел близко знаться. Но Дукач об этом, по-видимому, нимало и не скорбел.
Может быть, ему это даже нравилось. По крайней мере он не без удовольствия
говаривал, что в жизнь свою никому не кланялся и не поклонится - и случая
такого не чаял, который мог бы заставить его поклониться. Да и в самом деле
и из-за чего он стал бы кого-нибудь заискивать? Волов и всякой худобы много;
а если этим бог накажет, - волы попадают или что пожаром сгорит, так у него
вволю и земли и лугов - все в порядке, все опять снова уродится, и он снова
разбогатеет. А хоть бы и не так, то он хорошо знал в дальнем лесу один
приметный дуб, под которым закопан добрый казанок с старыми рублевиками.
Стоит его достать оттуда, так и без всяких хлопот можно целый век жить, и то
не прожить. Что же значили ему люди? Детей, что ли, ему с ними крестить, -
но у него детей не было. Или для того чтобы утешить свою Дукачиху, которая
по, бабьей прихоти приставала:
- Что, мол, нас все боятся да нам завидуют - лучше бы сделать, чтобы
нас кто-нибудь любить стал.
Но стоило ли это бабье нытье казачьего внимания.
И вот шли годы за годами, пронося над головою Дукача безвредно всякие
житейские случайности и невзгоды, а случай, который мог заставить его
поклониться людям, все-таки его не облетел мимо: теперь люди ему
понадобились, чтобы дитя крестить.
Всякому иному, не такому гордому человеку, как Дукач, это, разумеется,
ничего бы не составляло, но Дукачу ходить, звать, да еще упрашивать, было не
под стать. Да еще кого звать и кого "упрашивать"? - Уж, разумеется, не
кого-нибудь, а самых первых людей: молодую поповну-щеголиху, которая ходила
в деревне в полтавских шляпках, да судового паныча, что гостил об эту пору у
отца диакона. Положим, это компания хорошая, но что-то страшно: ну как они
откажут? Дукач помнил, что ведь не обращал внимания он не только на простых
людей, но не уважал и отцу Якову, а с диаконом прямо один раз на гребле
"бился" за то, что тот, едучи ему навстречу, не хотел с дороги в грязь
своротить. Чего доброго, и они этого не позабыли и теперь, - когда гордому
казаку пришла в них нужда, - они ему это, пожалуй, и вспомнят. Делать,
однако, было нечего. Дукач поднялся на хитрость: избегая самолично встретить
отказ, он послал звать кумовьев Агапа. А чтобы и тому было поваднее, снабдил
его зваными дарами деревенского припасения, которые вынул из заветной
скрыни: панночке высокий черепаховый гребень "с огородом", а панычу
золоченую склянку петухом с немецкою подписью. Но все это вышло напрасно:
кумовья отказались и даров не приняли; да еще, по словам Агапа, и в глаза
ему насмеялись: что, дескать, чего Дукач и заботится: разве детей таких
злодеев, как он, можно крестить? А когда Агап заметил, что неужто дитя целую
неделю останется не крещено, то будто сам поп - отец Яков прямо пророковал:
что не неделю, а целый век ему оставаться некрещеным.
Услыхав это, Дукач сложил правою рукою дулю, сунул ее племяннику в нос
и велел поднести это за пророчество отцу Якову. А чтобы Агапу веселее было
идти, - повернул его другою рукою и выпроводил по потылице.
V
Агап, разумеется, не считал этого за самый худший исход, какого он мог
ожидать за свое неудачное посольство, и, закатись с дядиных глаз в корчму,
успел рассказать бывшее так хорошо, что через полчаса об этом знало все
селение, и все, от мала до велика, радовались тому, что отец Яков "в книгах
вычитал, як Дукачонку на роду писано остаться некрещеным". И если бы теперь
старый Дукач забыл всю свою важность и стал звать последнего из последних на
селе, то он наверно бы никого не дозвался, но Дукач это знал: он знал, что
находится в положении того волка, который всем чем-нибудь нагадил, и что ему
потому некуда деться и не от кого искать защиты. Он пошел напролом: сунув к
носу Агапа дулю, адресованную отцу Якову, он решил обойтись не только без
содействия всех своих односельчан, но и без услуг самого отца Якова.
Назло всем, но, может быть, особенно отцу Якову, Дукач решил окрестить
сына в чужом приходе, в селе Перегудах, которое отстояло от Парипс не более
как на семь или на восемь верст. А чтобы не откладывать спешного дела в
долгий ящик, - окрестить сына немедленно, именно нынче же, - чтобы завтра об
этом и разговоров не было; а напротив, чтобы завтра же все знали, что Дукач
настоящий казак, который никому в насмешку не дается и может без всех
обойтись. Кум у него уже был избран - самый неожиданный, - это Агап. Правда,
что такой выбор многих мог удивить, но на то у Дукача был отвод: он брал
простых кумовьев - "встречных", как на то есть поверье, что таких бог
посылает. Агап и взаправду был первый "ветречник", на которого богатый казак
на первого взглянул при известии о новорожденном; а первая "встречница" была
бабка Керасивна. Ее взять в кумы было немножко неловко, потому что Керасивна
имела не совсем стройную репутацию: она была самая несомненная ведьма; столь
несомненная, что этого не отрицал даже сам ее муж, очень ревнивый казак
Керасенко, из которого эта хитрая жинка весь дух и всю его нестерпимую
ревность выбила. Обратя его в самого битого дурня, жила она на всей своей
вольной воле - немножко шинкуя, немножко промышляя то повитушеством, то
продажею паляниц, то, наконец, просто "срывая цветы удовольствий".
VI
Ведьмовство ее знали и стар и мал, - потому что случай, обнаруживший
это, был самый гласный и скандальный. Керасивна еще в дивчинах была
бесстрашная самовольница - жила в городах и имела какую-то мудреного вида
скляницу с рогатым чертом, которую ей подарил рогачевский дворянин с Покоти,
отливавший такие чертовщины в соседней гуте. И Керасивна пила себе к а
здоровье из этой скляницы и была здорова. И, наконец, мало всего этого - она
показала самую невозможную отвагу, добровольно согласись выйти замуж за
Керасенка. Этого никто не мог сделать кроме женщины, которая ничего не
боится, потому что Керасенко заведомо уже уморил своею ревностью двух жен, и
когда нигде в окрестности не мог найти себе третьей, то тогда эта окаянная
Христя сама ему набилась и вышла за него, только такое условие сделала, что
он ей всегда будет верить. Керасенко на это согласился, а сам думал:
"Дура баба: так я тебе и стану верить! - дай женюсь, - я тебя и на шаг
от себя не отпущу".
Всякая бы на месте Христи это предвидела, но эта шустрая дивчина словно
оглупела: и не только ничего не побоялась и вышла за ревнивого вдовца, да
еще взяла и совсем его переделала, так что он вовсе перестал ее ревновать и
дал ей жить на всей ее вольной воле. Вот это-то и было устроено самым
коварным ведьмовством и при несомненном участии черта, которого соседка
Керасивны, Пиднебесная, сама видела в образе человеческом.
Это было вскоре же после того, как Керасенко женился на бойкой Христе,
и хоть тому теперь прошел уже добрый десяток лет, однако бедный казак,
конечно, и о сю пору хорошо помнил этот чертовский случай. Было это зимою,
под вечер, на праздниках, когда никакому казаку, хоть бы и самому ревнивому,
невмочь усидеть дома. А Керасенко и сам "нудил свитом" и жену никуда не
пускал, и произошла у них из-за этого баталия, при которой Керасивна сказала
мужу:
- Ну, як ты выйшов на своем слове невирный, то я же тебе зроблю лихо.
- Як лихо! як ты мени лихо зробишь? - заговорил Керасенко.
- А зроблю, да и усе тут буде.
- А як я тебе з очей не выпущу?
- А я на тебе мару напущу.
- Як мару? - хиба ты видьма?
- А от побачишь, чи я видьма, чи я ни видьма.
- Добре.
- От побачишь: дивись на мене, держись за мене, а я свое зроблю.
И еще срок назначила:
- Три дня, - говорит, - не пройдет, как сделаю.
Казак сидит день, сидит два, просидел и третий до самого до вечера и
думает: "Срок кончился, а щоб мене сто чортиев сразу взяли, як дома
скучно... а Пиднебеснихин шинок як раз против моей хаты, из окон в окна:
мини звидтиль все видно будет, як кто-нибудь пойдет ко мне в хату. А я тем
часом там выпью две-три або четыре чвертки... послухаю, що люди гомонят що в
городу чуть... и потанцюю - позабавлюся".
И он пошел - пошел и сел, как думал, у окна, так что ему видно всю свою
хату, видно, как огонь горит; видно, как жинка там и сям мотается. Чудесно?
И Керасенко сел себе да попивает, а сам все на свою хату посматривает; но
откуда ни возьмись сама вдова Пиднебесная заметила эту его проделку, да и ну
над ним подтрунивать: эх, мол, такой-сякой ты глупый казак, - чего ты
смотришь, - в жизнь того не усмотришь.
- Ну, добре - ще побачим!
- Ничото и бачить, - де за нами, жинками, больше смотрят, там нам,
жинкам, сам бис помогае.
- Говори-ка, говори себе, - отвечал казак, - а як я сам на жинку
дивитимусь, то коло ии и черт ничего не зробыть.
Тут все и закивали головами.
- Ах, нехорошо так, Керасенко, ах, нехорошо! - или ты некрещеный
человек, или ты до того осатанел, что и в самого беса не веруешь.
И все этим так возмутились, что даже кто-то из толпы крикнул:
- Да що еще на него смотреть: дать ему такого прочухана, щоб вин тричи
перевернувся и на добру виру став.
И его действительно чуть не побили, к чему, как он заметил, особенное
стремление имел какой-то чужой человек, о котором Керасенку вдруг ни с того
ни с сего вздумалось, что это не кто иной, как тот самый рогачевокий
дворянин, который подарил его жене склянку с черт том и из-за которого у них
с женою перед самою свадьбою было объяснение, окончившееся условием, чтобы
об этом человеке больше уже не разговаривать.
Условие было заключено страшной клятвой, что если Керасенко хоть раз
вспомнит про дворянина, то будет он тогда за это у черта в зубах. И
Керасенко это условие помнил. Но только теперь он был пьян и не мог снесть
своего замешательства: зачем тут явился рогачевский дворянин? И он поспешил
домой, но дома не застал жены, и это ему показалось еще несообразнее.
"Не вспоминать-то, - думал он, - это точно мы условились о нем не
вспоминать, а на что же он тут вертится, - и зачем моей жены дома нет?"
И когда Керасенко наводился в таких размышлениях, ему вдруг показалось,
что у него в сенях за дверью кто-то поцеловался. Он встрепенулся и стал
прислушиваться... слышит еще поцелуй и еще, и шепот, и опять поцелуй. И все
как раз у самой у двери...
- Э, до ста чертей, - сказал себе Керасенко, - или это я с отвычки
горилки так славно наугощался у Пиднебеснихи, что мне черт знает что
показывается; или это моя жинка пронюхала, что я про рогачевского шляхтича с
нею хочу спорить, и вже успела на меня мару напустить? Люди мне уже не раз
прежде говорили, что она у меня ведьма, да только я этого доглядеться не
успел, а теперь... ишь, опять целуются, о... о... о... вот опять и опять...
А, стой же, я тебя подкараулю!
Казак спустился с лавки, подполз тихо к двери и, припав ухом к пазу,
стал слушать: целуются, несомненно целуются - так губами и чмокают... А вот
и разговор, и это живой голос его жены; он слышит, как она говорит:
- Що тиби мой муж, такий-сякий поганец: я его прожену, а тебе в хату
пущу.
"Ого! - подумал Керасенко, - это она еще меня хвалится выгнать, а в мою
хату кого-то впустить хочет... Ну уж этого не будет".
И он поднялся, чтобы сильным толчком распахнуть дверь, но дверь сама
растворилась, и на пороге предстала Керасивна - такая хорошая, спокойная,
только немножко будто красная, и сразу же принялась ссориться, как пристойно
настоящей малороссийской жинке. Назвала она его чертовым сыном, и пьяницей,
и собакой, и многими другими именами, а в заключение напомнила ему об их
условии, чтобы Керасенко и думать не смел ее ревновать. А в доказательство
своего к ней доверия сейчас же пустил бы ее на вечерници. Иначе она ему
такую штуку устроит, что он будет век помнить. Но Керасенко был малый не
промах, пустить на вечерници сейчас после того, как он своими глазами видел
у Пиднебеснихи рогачевского дворянина и сейчас слышал, как его жена с кемто
целовалась и сговаривалась кого-то пустить в хату... это ему, разумеется,
представилось уже слишком очевидною глупостью.
- Нет, - сказал он, - ты поищи такого дурня в другом месте, а я хочу
лучше тебя дома припереть да спать лечь. Так оно надежнее будет: тогда я и
твоей мары не испугаюсь.
Керасивна, услыхав эти слова, даже побледнела; муж с нею первый раз
заговорил в таком тоне, и она понимала, что это настал в ее супружеской
политике самый решительный момент, который во что бы то ни стало надо
выиграть: или - все, что она вела до сих пор с такою ловкостью и
настойчивостью, пропало бесследно и, пожалуй, еще обратится на ее же голову.
И она вспрянула - вспрянула во весь свой рост, ткнула казаку в нос
самую оскорбительную дулю и хотела, не долго думая, махнуть за дверь, но тот
отгадал ее намерение и предупредил его, замкнув дверь на цепочку, и, опустив
ключ в бесконечный карман своих широчайших шаровар, с возмутительным
спокойствием сказал:
- Вот тебе и вся твоя дорога, от печи да до порота.
Положение Керасивны обозначилось еще решительнее: она приняла вызов
мужа и впала в такое неописанное и страшное экстатическое состояние, что
Керасенко даже испугался. Христя долго стояла на одном месте, вся вздрагивая
и вытягиваясь как змея, причем руки ее корчились, кулаки были крепко сжаты,
а в горле что-то щелкало, и по лицу ходили то белые, то багровые пятна, меж
тем как устремленные в упор на мужа глаза становились острее ножей и вдруг
заиграли совсем красным пламенем.
Это показалось казаку так страшно, что он, не желая ^ видеть жены в
этом бешенстве, крикнул:
- Цур тоби, проклятая видьма! - и, дунув на огонь, сразу погасил
светло.
Керасивна только топнула впотьмах и прошипела:
- Так будешь же ты знать мене, видьму! - И потом вдруг, как кошка,
прыгнула к печке и звонко-презвонко; крикнула в трубу:
- У-г-у-у! души его, свинью!
VII
Казак, правда, еще больше струсил от этого нового неистовства, но чтобы
не упустить жену, которая, очевидно, была ведьма и имела прямое намерение
лететь в трубу, он изловил ее и, сильно обхватив ее руками, бросил на
кровать к стенке и тотчас же сам прилег с краю.
Керасивна, к удивлению мужа, нимало не сопротивлялась - напротив, она
была тиха, как смирный ребенок, и даже не бранилась. Керасенко был этому
очень рад и, зажав одною рукою спрятанный в карман ключ, а другою взяв жену
за рукав рубахи, заснул глубоким сном.
Но недолго длилось это его блаженное состояние: только что он отхватал
половину первого сна, в котором переполненный винных паров мозг его размяк и
утратил ясность представлений, как вдруг он получил толчок в ребра.
"Что такое?" - подумал казак и, почувствовав еще новые толчки,
пробормотал:
- Чего ты, жинка, толкаешься?
- А то як же не толкаться: слухай-ко, что на дворе робится?
- Что там робится?
- А вот ты слухай!
Керасенко поднял голову и слышит, что у него на дворе что-то страшно
визгнуло.
- Эге, - сказал он, - а ведь это, пожалуй, кто-то нашу свинью волокет.
- А разумеется, так. Пусти меня скорее, я пойду посмотрю: хорошо ли она
заперта?
- Тебя пустить?.. Гм... гм...
- Ну дай же ключ, а то украдут свинью, и будем мы сидеть все святки и
без ковбас и без сала. Все добрые люди будут ковбасы есть, а мы будем только
посматривать... Ого-го-го... слушай, слушай: чуешь, як ее волокут... Аж мне
его жаль, как оно, бедное порося, завизжало!.. Ну, пусти меня скорее: я
пойду ее отниму.
- Ну да: так я тебя и пущу! Где это видано, чтобы баба на такое дело
ходила - свинью отнимать! -отвечал казак, - лучше я встану и сам пойду
отниму.
А на самом деле ему лень было вставать и страх не хотелось идти на
мороз из теплой хаты; но только и свинью ему было жалко, и вот он встал,
накинул свитку и вышел за двери. Но тут и произошло то неразгаданное
событие, которое несомненнейшими доказательствами укрепило за Керасивною
такую ведьмовскую славу, что с сей поры всяк боялся Керасивну у себя в доме
видеть, а не только в кумы ее звать, как это сделал надменный Дукач.
VIII
Не успел осторожно шагавший казак Керасенко отворить хлев, где горестно
завывала недовольная причиняемым ей беспокойством свинья, как на него из
непроглядной темноты упалЪ что-то широкое да мягкое, точно возовая дерюга, и
в ту же минуту казака что-то стукнуло в загорбок, так что он упал на землю и
насилу выпростался. Удостоверившись, что свинья цела и лежит на своем месте,
Керасенко припер ее покрепче и пошел к хате досыпать ночь.
Но не тут-то было: не только самая хата, но и сени его оказались
заперты. Он туда, он сюда - все заперто. Что за лихо? Стучал он, стучал;
звал, звал жинку:
- Жинка! Христя! отопри скорее. Керасивна не откликалась.
- Тпфу ты, лихая баба: чего это она вздумала запереться и так скоро
заснула! Христя! ей! жинка! Отчини!
Ничего не было: словно все замерло; даже и свинья спит, и та не
хрюкает.
"Вот так штука! - подумал Керасенко, - ишь как заснула! Ну да я вылезу
через тын на улицу да подойду к окну; она близко у окна спит и сейчас меня
услышит".
Он так и сделал: подошел к окну и ну стучать, но только что же он
слышит? - жена его говорит:
- Спи, человиче, спи: не зважай на то, що стучит: се чертяка у нас
ходыт!
Казак стал сильнее стучать и покрикивать:
- Сейчас отчини, или я окно разобью. Но тут Христя рассердилась и
отозвалась:
- Кто это смеет в такую пору к честным людям стучаться?
- Да это я, твой муж,
- Какой мой муж?
- Известно какой твой муж - Керасенко.
- Мой муж дома, - иди себе, иди, кто ты там есть, не буди нас: мы с
мужем вместе обнявшись спим.
"Что это такое? - подумал Керасенко, - неужели я все сплю и во сне
вижу, или это взаправду деется?".
И он опять застучал и начал звать:
- Христя, а Христя! да отопри на божию милость. И все пристает, все
пристает с этим; а та долго молчит - ничего не отвечает и потом опять
отзовется:
- Да провались ты совсем, - кто такой привязался; говорю тебе, мой муж
дома, со мною рядом обнявшись лежит, - вот он.
- Это тебе, Христя, може показывается?
- Эге! спасиби тебе на том! Що же, хиба я така дурна, чи совсем
нечувствительна, що ни в чем толку не знаю? Нет, мне это лучше знать, що
показывается, а що не показывается. Вот он, вот мой чоловик, у меня совсем
близенько... вот я его и перекрещу: господи Иисусе, а вот и поцелую: и
обниму и опять поцелую... Так добре нам вместе, а ты, недобрый потаскун, иди
себе сам до своей жинки - не мешай нам спать и целоваться. Добра ничь - иди
с богом.
"Фу ты, сто чертов твоему батькови: что это за притча! - пожимая
плечами, рассуждал Керасенко. - Чего доброго, я, перелезши через тын, не
обознался ли хатою. Только нет: это моя хата".
Он отошел на другую сторону широкой деревенской улицы и стал считать от
колодца с высоким журавлем.
- Первая, вторая, третья, пятая, седьмая, девятая... Вот это и есть моя
девятая.
Пришел: опять стучит, опять зовет, и опять та же история: нет-нет
отзовется женский голос, и все раз от раза с большим неудовольствием и все в
одном и том же смысле:
- Иди прочь: мой муж со мною.
А голос Христа - несомненно ее голос.
- А ну, если твой чоловик с тобою, - пусть он заговорит.
- Чего ему со мною говорить, як мы уже все обговорили.
- Да я хочу послушать: есть ли там у тебя чоловик?
- А вже же есть: вот ты слухай, як мы станем целоваться.
- Тпфу, пропасти на них нет: в самом деле целуются, а меня уверяют, что
я - не я, и куда-то совсем прочь домой посылают. Но погоди же: я не совсем
глупый - пойду соберу людей, и пусть люди скажут: мой это док или нет, и я
или кто другой муж моей жинки. - Слушай Христя: я пойду людей будить.
- Да иди, иди, - отвечает голос, - только от нас отчепысь: мы вот
двоечко нацеловались и смирненько обнявшись лежим, и хорошо нам. А до других
ни до кого дела нет.
Вдруг и другой, несомненно мужской голос то же самое утверждает:
- Мы двоечко нацеловались и теперь смирненько обнявшись лежим, а ты
ступай к черту!
Ничего больше не оставалось делать: Керасенко убедился, что в его
звании под бок к Христе подкатился кто-то другой, и он пошел будить соседей.
IX
Долго или коротко это шло, пока очумевший Керасенко успел добудиться и
собрать к своему дому десятка два казаков и добровольно последовавших за
мужьями любопытных казачек, - а Керасивна оставалась в своем положении и все
уверяла всех, что со всеми с ними мара, а что ее муж с нею дома, лежит у нее
на руке, и в доказательство не раз заставляла всех слушать, как она его
целует. И все казаки и казачки это внимали и находили, что это никак не
может быть фальшь, потому что поцелуи были настоящие, и притом из-за окна,
хотя не особенно внятно, а все-таки хорошо слышался мужской голос, который,
по уверению Керасивны, принадлежал ее мужу. И все слышали, как этот голос
один раз приблизился к самому окну и оттуда, всех ужасая, сказал:
- Що вы, дурни, за марою ходите? - я дома лежу со своею жинкою; а это
вас мара водит. Дайте ей всякий по одному доброму прочухану наотмашь, - она
враз и рассыпется.
Казаки перекрестились, и кто из них ближе стоял к Керасенке, тот первый
и съездил его изо всей силы по потылице, - но сам тотчас же дал тягу: а его
примеру последовали другие. И Керасенко, получив от каждого по тумаку
наотмашь, в одну минуту был жестоко исколочен и безжалостно брошен у порога
своей заколдованной хаты, где какой-то коварный демон так усердно замещал
его на супружеском ложе. Он более уже не пытался облегчить своего горя, а
только, сидя на снежку, горько плакал, как совсем бы казаку и не пристало, и
все как будто слышал, что его Керасивна целуется. Но, к счастью, все мучения
человеческие имеют конец, - и это терзание Керасенки кончилось, - он заснул,
и ему снилось, будто его жена взяла его за шиворот и перенесла на хорошо ему
знакомую теплую постель, а когда он проснулся, в самом деле увидел себя на
своей постели, в своей хате, а перед ним у припечки хлопотала, стряпая
клецки с сыром, его молодцеватая Керасивна. Словом, все как следует - точно
ничего необыкновенного и не случилось: ни про поросенка, ни про мару и
помина не было. Керасенко же хотя и очень желал об этом заговорить, но не
знал: как за это взяться?
Казак на все только рукою махнул и с тех пор жил с своею Керасивною в
мире и согласии, оставляя ее на всей ее воле и просторе, которыми она и
пользовалась как знала. Она и торговала и ездила, куда хотела, и домашнее
счастие ее от этого не страдало, а благосостояние и опытность увеличивались.
Но зато в общественном мнении Керасивна была потеряна: все знали, что она
ведьма. Хитрая казачка против этого никогда не спорила, так как это давало
ей своего рода апломб: ее боялись, чествовали и, приходя к ней за советами,
приносили ей либо копу яиц, либо какой другой пригодный в хозяйстве подарок.
X
Знал Керасивну и Дукач, и знал ее, разумеется, за женщину умную, с
которою, окромя ее ведовства, во всяком причинном случае посоветоваться не
лишнее. И как Дукач сам был человек нелюбимый, то он Керасивною не очень-то
и брезговал. Люди говорили, будто не раз видали их стоявшими вдвоем под
густою вербою, которая росла заплетенная в плетень, разделявший их огороды.
Иные даже думали, что тут было немножко и какого-то греха, но это,
разумеется, были сплетни. Просто Дукач и Керасивна, имевшие в своей
репутации нечто общее, были знакомы и находили о чем поговорить друг с
другом.
Так и теперь, в том досадительном случае, который последовал по поводу
неудачного позыва кумовьев, Дукач вспомнил о Керасивне и, призвав ее на
совет, рассказал ей причиненную ему всеми людьми досаду.
Выслушав это, Керасивна мало подумала и, тряхнув головою, прямо
отрезала:
- А що же, пане Дукач: зовить меня кумою!
- Тебя кумою звать, - повторил в раздумье Дукач.
- Да, или вы верите, що я видьма?
- Гм!.. говорят, будто ты видьма, а я у тебя хвоста не бачив.
- Да и не побачите.
- Гм! тебя кумою... а що на то все люди скажут?
- Се якие люди?.. те, що вам в хату и плюнуть не хотят идти?
- Правда, а що моя Дукачиха заговорит? Ведь она верит, що ты видьма?
- А вы ее боитесь?
- Боюсь... Я не такой дурень, як твой муж: я баб не боюсь и никого не
боюсь: а тилько... ты вправду не ведьма?
- Э, да, я бачу, вы, пане Дукач, такий же дурень! Ну так зовите же кого
хотите.
- Гм! ну стой, стой, не сердись: будь ты взаправду кумою. Только
смотри, станет ли с тобою перегудинский поп крестить?
- А отчего не станет!
- Да бог его знает: он який-с такий ученый - все от писания начинает, -
скажет: не моего прихода.
- Не бойтесь - не скажет: он хоть ученый, а жинок добре слухае...
Начнет от писания, а кончит, як все люди, - на том, що жинка укажет. Добре
его знаю и была с ним в компании, где он ничего пить не хотел. Говорит: "В
писании сказано: не упивайтеся вином, - в нем бо есть блуд". А я говорю:
"Блуд таки блудом, а вы чарочку выпейте", - он и выпил.
- Выпил?
- Выпил.
- Ну так се добре: только смотри, щобы вин нам, выпивши, не испортил
хлопца, - не назвал бы его Иваном або Николою.
- Ну вот! так я ему и дам, щоб христианское дитя да Николой назвать.
Хиба я не знаю, что это московськое имя.
- То-то и есть: Никола самый москаль.
Дело стояло еще за тем, что у Керасивны не было такой теплой и
просторной шубы, чтобы везти дитя до Перегуд, а день был очень студеный -
настоящее "варварское время", но зато у Дукачихи была чудная шуба, крытая
синею нанкою. Дукач ее достал и отдал без спроса жены Керасивне.
- На, - говорит, - одень и совсем ее себе возьми, только долго не
копайся, щобы люди не говорили, що у Дукача три дня было дитя не хрещено.
Керасивна насчет шубы немножко поломалась, но, однако, взяла ее. Она
завернула далеко вверх подбитые заячьим мехом рукава, и все в хуторе видели,
как ведьма, задорно заломив на затылок пестрый очипок, уселась рядом с
Агапом в сани, запряженные парою крепких Дукачевых коней, и отправилась до
попа Еремы в село Перегуды, до которого было с небольшим восемь верст. Когда
Керасивна с Агапом отъезжали, любопытные люди видели, что и кум и кума были
достаточно трезвы. Что хотя у Агапа, который правил лошадьми, была видна в
коленях круглая барилочка с наливкою, но это, очевидно, назначалось для
угощения причта. У Керасивны же за пазухою просторной синей заячьей шубы
лежало дитя, с крещением которого должен был произойти самый странный
случай, - что, впрочем, многие опытные люди живо предчувствовали. Они знали,
что бог не допустит, чтобы сын такого недоброго человека, как Дукач, был
крещен, да еще через известную всем ведьму. Хороша бы после этого вышла и
вся крещеная вера!
Нет, бог справедлив: он этого не может допустить и не допустит.
Того же самого мнения была и Дукачиха. Она горько оплакивала ужасное
самочинство своего мужа, избравшего единственному, долгожданному дитяти
восприемницею заведомую ведьму.
При таких обстоятельствах и предсказаниях произошел отъезд Агапа и
Керасивны с Дукачевым ребенком из села Парипс в Перегуды, к попу Ереме.
Это происходило в декабре, за два дня до Николы, часа за два до обеда,
при довольно свежей погоде с забористым "московським" ветром, который тотчас
же после выезда Агапа с Керасивною из хутора начал разыгрываться и
превратился в жестокую бурю. Небо сверху заволокло свинцом; понизу завеялась
снежистая пыль, и пошла лютая метель.
Все люди, желавшие зла Дукачеву ребенку, видя это, набожно
перекрестились и чувствовали себя удовлетворенными: теперь уже не было
никакого сомнения, что бог на их стороне.
XI
Предчувствия говорили недоброе и самому Дукачу; как он ни был крепок, а
все-таки был доступен суеверному страху и - трусил. В самом деле, с того ли
или не с того сталося, а буря, угрожавшая теперь кумовьям и ребенку, точно с
цепи сорвалась как раз в то время, когда они выезжали за околицу. Но еще
досаднее было, что Дукачиха, которая весь свой век провела в раболепном
безмолвии перед мужем, вдруг разомкнула свои молчаливые уста и заговорила:
- На старость нам, в мое утешенье, бог нам дытину дал, а ты его съел.
- Это еще що? - остановил Дукач, - как я съел дитя?
- А так, що отдал его видьме. Где это по всему христианскому казачеству
слыхано, чтобы видьми давали дитя крестить?
- А вот же она его и перекрестит.
- Никогда того не было, да и не будет, чтобы господь припустил до своей
христианской купели лиходейскую видьму.
- Да кто тебе сказал, що Керасивна ведьма?
- Все это знают.
- Мало чего все говорят, да никто у нее хвоста не видел.
- Хвоста не видели, а видели, как она мужа оборачивала.
- Отчего же такого дурня и не оборачивать?
- И от Пиднебеснихи всех отворотила, чтобы у нее паляниц не покупали.
- Оттого, что Пиднебесная спит мягко и ночью тесто не бьет, у нее
паляницы хуже.
- Да ведь с вами не сговоришь, а вы кого хотите, всех добрых людей
спросите, и все добрые люди вам одно скажут, что Керасиха ведьма.
- На что нам других добрых людей пытать, когда я сам добрый человек.
Дукачиха вскинула на мужа глаза и говорит:
- Как это... Это вы-то добрый человек?
- Да; а что же по-твоему, я разве не добрый человек?,
- Разумеется, не добрый.
- Да кто тебе это сказал?
- А вам кто сказал, что вы добрый?
- А кто сказал, что я не добрый?
- А кому же вы какое-нибудь добро сделали?
- Какое я кому добро сделал!
- Да.
"А сто чертей... и правда, что же это я никак не могу припомнить: кому
я сделал какое-нибудь добро?" - подумал непривычный к возражениям Дукач и,
чтобы не слышать продолжения этого неприятного для него разговора, сказал:
- Вот того только и недоставало, чтобы я с тобою, с бабою, стал
разговаривать.
И с этим, чтобы не быть более с женою с глаза на глаз в одной хате, он
снял с полка отнятую некогда у Агапа смушковую шапку и пошел гулять по
свету.
XII
Вероятно, на душе у Дукача было уже очень тяжело, когда он мог пробыть
под открытым небом более двух часов, потому что на дворе стоял настоящий ад:
буря сильно бушевала, и в сплошной снежной массе, которая тряслась и
веялась, невозможно было перевести дыхание.
Если таково было близ жилья, в затишье, то что должно было происходить
в открытой степи, в которой весь этот ужас должен был застать кумовьев и
ребенка? Если это так невыносимо взрослому человеку, то много ли надо было,
чтобы задушить этим дитя?
Дукач все это понимал и, вероятно, немало об этом думал, потому что он
не для удовольствия же пролез через страшные сугробы к тянувшейся за селом
гребле и сидел там в сумраке метели долго, долго - очевидно, с большим
нетерпением поджидая чего-то там, где ничего нельзя было рассмотреть.
Сколько Дукач ни стоял до самой темноты посредине гребли, - его никто не
толкнул ни спереди, ни сбоку, и он никого не видал, кроме каких-то
длинных-предлинных привидений, которые, точно хоровод водили вверху над его
головою и сыпали на него снегом. Наконец это ему надоело, и когда быстро
наступившие сумерки увеличили темноту, он крякнул, выпутал ноги из
засыпавшего их сугроба и побрел домой.
Тяжело и долго путаясь по снегу, он не раз останавливался, терял дорогу
и снова ее находил. Опять шел, шел и на что-то наткнулся, ощупал руками и
убедился, что то был деревянный крест - высокий, высокий деревянный крест,
какие в Малороссии ставят при дорогах.
"Эге, - это я, значит, вышел из села! Надо же мне взять назад", -
подумал Дукач и повернул в другую сторону, но не сделал он и трех шагов, как
крест был опять перед ним.
Казак постоял, перевел дух и, оправясь, пошел на другую руку, но и
здесь крест опять загородил ему дорогу
"Что он, движется, что ли, передо мною, или еще что творится", - и он
начал разводить руками и опять нащупал крест, и еще один, и другой возле.
- Ага; вот теперь понимаю, где я: это я попал на кладбище. Вон и огонек
у нашего попа. Не хотел ледачий пустить ко мне свою поповну окрестить
детину. Да и не надо; только где же тут, у черта, должен быть сторож
Матвейко?
И Дукач было пошел отыскивать сторожку, но вдруг скатился в какую-то
яму и так треснулся обо что-то твердое, что долго оставался без чувств.
Когда же он пришел в себя, то увидал, что вокруг него совершенно тихо, а над
ним синеет небо и стоит звезда.
Дукач понял, что он в могиле, и заработал руками и ногами, но выбраться
было трудно, и он добрый час провозился, прежде чем выкарабкался наружу, и с
ожесточением плюнул.
Времени, должно быть, прошло добрая часина - буря заметно утихла, и на
небе вызвездило.
XIII
Дукач пошел домой и очень удивился, что ни у него, ни у кого из
соседей, ни в одной хате уже не было огня. Очевидно, что ночи уже ушло
много. Неужели же и о сю пору Агап и Керасивна с ребенком еще не вернулись?
Дукач почувствовал в сердце давно ему не знакомое сжатие и отворил
дверь нетвердою рукою.
В избе было темно, но в глухом угле за печкою слышалось жалобное
всхлипывание.
Это плакала Дукачиха. Казак понял, в чем дело, но не выдержал и таки
спросил:
- А неужели же до сих пор...
- Да, до сих пор видьма еще ест мою дытину, - перебила Дукачиха.
- Ты глупая баба, - отрезал Дукач.
- Да, это вы меня такою глупою сделали; а я хоть и глупая, а все-таки
не отдавала видьми свою дытину.
- Да провались ты со своею ведьмою: я чуть шею не сломал, попал в
могилу.
- Ага, в могилу... ну то она же и вас навела в могилу. Идите лучше
теперь кого-нибудь убейте.
- Кого убить? Что ты мелешь?
- Подите хоть овцу убейте, - а то недаром на вас могила зинула - умрете
скоро. Да и дай бог: что уже нам таким, про которых все люди будут говорить,
что мы свое дитя видьми отдали.
И она пошла опять вслух мечтать на эту тему, меж тем как Дукач все
думал: где же в самом деле Агап? Куда он делся? Если они успели доехать до
Перегуд прежде, чем разыгралась метель, то, конечно, они там переждали, пока
метель улеглась, но в таком случае они должны были выехать, как только
разъяснило, и до сих пор могли быть дома.
- Разве не хлебнул ли Агап лишнего из барилочки? Эта мысль показалась
Дукачу статочною, и он поспешил сообщить ее Дукачихе, нота еще лише
застонала:
- Что тут угадывать, не видать нам свое дитя: заела его видьма
Керасивна, и она напустила на свет эту погоду, а сама теперь летает с ним по
горам и пьет его алую кровку.
И досадила этим Дукачиха мужу до того, что он, обругав ее, взял опять с
одного полка свою шапку, а с другого ружье и вышел, чтобы убить зайца и
бросить его в ту могилу, в которую незадолго перед этим свалился, а жена его
осталась выплакивать свое горе за припечком.
XIV
Огорченный и непривычным образом взволнованный казак в самом деле не
знал, куда ему деться, но как у него уже сорвалось с языка про зайца, то он
более машинально, чем сознательно, очутился на гумне, куда бегали шкодливые
зайцы; сел под овсяным скирдом и задумался.
Предчувствия томили его, и горе кралось в его душу, и шевелили в ней
терзающие воспоминания. Как ни неприятны были ему женины слова, но он
сознавал, что она права. Действительно, он во всю свою жизнь не сделал
никому никакого добра, а между тем многим причинил много горя. И вот у него,
из-за его же упрямства, гибнет единственное, долгожданное дитя, и сам он
падает в могилу, что, по общему поверью, неминучий злой знак. Завтра будут
обо всем этом знать все люди, а все люди - это его враги... Но... может
быть, дитя еще найдется, а он, чтобы не скучать, ночью подсидит и убьет
зайца и тем отведет от своей головы угрожающую ему могилу.
И Дукач вздохнул и стал всматриваться: не прыгает ли где-нибудь по полю
или не теребит ли под скирдами заяц.
Оно так и было: заяц ждал его, как баран ждал Авраама: у крайнего
скирда на занесенном снегом вровень с вершиною плетне сидел матерый русак.
Он, очевидно, высматривал местность и занимал самую бесподобную позицию для
прицела.
Дукач был старый и опытный охотник, он видал много всяких охотничьих
видов, но такой ловкой подставки под выстрел не видывал и, чтобы не упустить
ее, он недолго же думая приложился и выпалил.
Выстрел покатился, и одновременно с ним в воздухе пронесся какой-то
слабый стон, но Дукачу некогда было раздумывать - он побежал, чтобы поскорей
затоптать дымящийся пыж, и, наступив на него, остановился в самом
беспокойном изумлении: заяц, до которого Дукач не добежал несколько шагов,
продолжал сидеть на своем месте и не трогался.
Дукач опять струхнул: вправду, не шутит ли над ним дьявол, не оборотень
ли это пред ним? И Дукач свалял ком снега и бросил им в зайца. Ком попал по
назначению и рассыпался, но заяц не трогался - только в воздухе опять что-то
простонало. "Что за лихо такое", - подумал Дукач и, перекрестясь, осторожно
подошел к тому, что он принимал за зайца, но что никогда зайцем не было, а
было просто-напросто смушковая шапка, которая торчала из снега. Дукач
схватил эту шапку и при свете звезд увидал мертвенное лицо племянника,
облитое чем-то темным, липким, с сырым запахом. Это была кровь.
Дукач задрожал, бросил свою рушницу и пошел на село, где разбудил всех
- всем рассказал свое злочинство; перед всеми каялся, говоря: "прав господь,
меня наказуя, - идите откопайте их всех из-под снегу, а меня свяжите и
везите на суд".
Просьбу Дукача удовлетворили; его связали и посадили в чужой хате, а на
гуменник пошли всем миром откапывать Агапа.
XV
Под белым ворохом снега, покрывавшего сани, были найдены окровавленный
Агап и невредимая, хотя застывшая Керасивна, а на груди у нее совершенно
благополучно спавший ребенок. Лошади стояли тут же, по брюхо в снегу,
опустив понурые головы за плетень.
Едва их немножечко поосвободили от замета, как они тронулись и повезли
застывших кумовьев и ребенка на хутор. Дукачиха не знала, что ей делать:
грустить ли о несчастий мужа или более радоваться о спасении ребенка. Взяв
мальчика на руки и поднеся его к огню, она увидала на нем крест и тотчас
радостно заплакала, а потом подняла его к иконе и с горячим восторгом,
глубоко растроганным голосом сказала:
- Господи! за то, что ты его спас и взял под свой крест, и я не забуду
твоей ласки, я вскормлю дитя - и отдам его тебе: пусть будет твоим слугою.
Так дан был обет, который имеет большое значение в нашей истории, где
до сих пор еще не видать ничего касающегося "некрещеного попа", меж тем как
он уже есть тут, точно "шапка", которая была у Агапа, когда казалось, что ее
будто и нет.
Но продолжаю историю: дитя было здорово; нехитрыми крестьянскими
средствами скоро привели в себя и Керасивну, которая, однако, из всего
вокруг нее происходившего ничего не понимала и твердила только одно:
- Дытина крещена, - и зовите его Савкою.
Этого было довольно для такого суматошного случая, да и имя к тому же
было всем по вкусу. Даже расстроенный Дукач, и тот его одобрил и сказал:
- Спасибо перегудинскому попу, то вин не испортил хлопца и не назвал
его Николою.
Тут Керасивна уже совсем оправилась и заговорила, что поп было хотел
назвать дитя Николою: "так, говорит, по церковной книге идет", только она
его переспорила: "я сказала, да бог с ними, сии церковные книги: на що воны
нам сдалися; а это не можно, чтобы казачье дитя по-московськи Николою
звалось".
- Ты умная казачка, - похвалил ее Дукач и наказал жене подарить ей
корову, а сам обещал, если уцелеет, и еще чем-нибудь не забыть ее услуги.
На этом пока и покончилось крестное дело, и наступала долгая и мрачная
пора похоронная. Агап так и не пришел в себя: его густым столбом дроби
расстрелянная голова почернела прежде, чем ее успели обмыть, и к вечеру
наступившего дня он отдал богу свою многострадавшую душу. Этим же вечером
три казака, вооруженные длинными палками, отвели старого Дукача в город и
сдали его там начальству, которое поместило его как убийцу в острог.
Агапа схоронили, Дукач судился, дитя росло, а Керасивна хотя и
поправилась, но все не "сдужала" и сильно изменилась, - все она ходила как
не своя. - Она стала тиха, грустна и часто задумывалась; и совсем не
ссорилась со своим Керасенко, который понять не мог, что такое подеялось с
его жинкою? Жизнь его, до сих пор столь зависимая от ее настойчивости и
своенравия, - стала самою безмятежною: он не слыхал от жены ни в чем ни
возражения, ни попрека и, не видя более ни во сне, ни наяву рогачевского
дворянина, - не знал, как своим счастьем нахвастаться. Эту удивительную
перемену в характере Керасивны долго и тщетно обсуждали и на торгу в
местечке: сами подруги ее - горластые перекупки говорили, что она "вся
здобрилась". И впрямь, не только одного, а даже хоть двух покупщиков от ее
лотка с паляницами отбей, она, бывало, даже ни одного черта не посулит ни
отцу, ни матери, ни другим сродникам. Про рогачевского же дворянина был даже
такой слух, что он будто два раза показывался в Парипсах, но Керасивна на
него и смотреть не хотела. Сама соперница ее, пекарша Пиднебесная, - и та,
не хотя губить своей души, говорила, что слышала, будто один раз этот паныч,
подойдя к Керасивне купить паляницу, получил от нее такой ответ:
- Иди от меня, щобы мои очи тебя никогда не бачили. Нет у меня для тебя
больше ничего, ни дарового, ни продажного.
А когда паныч ее спросил, что такое ей приключилось? то она отвечала:
- Так - тяжко: бо маю тайну велыкую.
Перевернуло это дело и старого Дукача, которого, при добрых старых
порядках, целые три года судили и томили в тюрьме по подозрению, что он
умышленно убил племянника, а потом, как неодобренного в поведении
односельцами, чуть не сослали на поселение. Но дело кончилось тем, что
односельцы смиловались и согласились его принять, как только он отбудет в
монастыре назначенное ему церковное покаяние.
Дукач оставался на родине только по снисхождению тех самых людей,
которых он презирал и ненавидел всю жизнь... Это был ему ужасный урок, и
Дукач его отлично принял. Отбыв свое формальное покаяние, он после пяти лет
отсутствия из дому пришел в Парипсы очень добрым стариком, всем повинился в
своей гордости, у всех испросил себе прощение и опять ушел в тот монастырь,
где каялся по судебному решению, и туда же снес свой казанок с рублевиками
на молитвы "за три души". Какие это были три души - того Дукач и сам не
знал, но так говорила ему Керасивна, что чрез его ужасный характер пропал не
один Агап, а еще две души, про которые знает бог да она - Керасивна, но
только сказать этого никому не может.
Так это и осталось загадкою, за которую в монастыре отвечал казанок,
полный толстых старинных рублевиков.
Меж тем дитя, которого появление на свет и крещение сопровождалось
описанными событиями, подросло. Воспитанное матерью - простою, но очень
доброю и нежною женщиною, - оно и само радовало ее нежностью и добротою.
Напоминаю вам, что когда это дитя было подано матери с груди Керасивны, то
Дукачиха "обрекла его богу". Такие "оброки" водились в Малороссии
относительно еще в весьма недавнюю пору и исполнялись точно - особенно, если
сами "оброчные дети" тому не противились. Впрочем, случаи противления если и
бывали, то не часто, вероятно потому - что "оброчные дети" с самого
измальства уже так и воспитывались, чтобы их дух и характер раскрывались в
приспособительном настроении. Достигая в таком направлении известного
возраста, дитя не только не противоречило родительскому "оброку", но даже
само стремилось к выполнению оброка с тем благоговейным чувством покорности,
которая доступна только живой вере и любви. Савва Дукачев был воспитан
именно по такому рецепту и рано обнаружил склонность к исполнению данных
матерью за него обетов. Еще в самом детском возрасте при несколько нежном и
слабом сложении он отличался богобоязненностью. Он не только никогда не
разорял гнезд, не душил котят, не сек хворостиной лягушек, но все слабые
существа имели в нем своего защитника. Слово нежной матери было для него
закон, - сколько священный, столь же и приятный, - потому что он во всем
согласовался с потребностями собственного нежного сердца ребенка. Любить
бога было для него потребностью и высшим удовольствием, и он любил его во
всем, что отражает в себе бога и делает его и понятным л неоцененным для
того, к кому он пришел и у кого сотворил себе обитель. Вся обстановка
ребенка была религиозная: мать его была благочестива и богомольна; отец его
даже жил в монастыре и в чем-то каялся. - Ребенок из немногих полунамеков
знал, что с его рождением связано что-то такое, что изменило весь их
домашний быт, - и все это получало в его глазах мистический характер. Он рос
под кровом бога и знал, что из рук его - его никто не возьмет. В восемь лет
его отдали учить к брату Пиднебеснихи, Охриму Пиднебесному, который жил в
Парипсах, в закоулочке за сестриным шинком, но не имел к этому заведению
никакого касательства, а вел жизнь необыкновенную.
XVI
Охрим Пиднебесный принадлежал к новому, очень интересному
малороссийскому типу, который начал обозначаться и формироваться в
заднепровских селениях едва ли не с первой четверти текущего столетия. Тип
этот к настоящему времени уже совсем определился и отчетливо выразился своим
сильным влиянием на религиозное настроение местного населения. Поистине
удивительно, что наши народоведы и народолюбцы, копавшиеся во всех мелочах
народной жизни, просмотрели или не сочли достойными своего внимания
малороссийских простолюдинов, которые пустили совершенно новую струю в
религиозный обиход южнорусского народа. - Здесь это сделать некогда, да и
мне не по силам; я вам только коротко скажу, что это были какие-то
отшельники в миру: они строили себе маленькие хаточки при своих родных
домах, где-нибудь в закоулочке, жили чисто и опрятно - как душевно, так и во
внешности. Они никого не избегали и не чуждались - трудились и работали
вместе с семейными и даже были образцами трудолюбия и домовитости, не
уклонялись и от беседы, но во все вносили свой, немножко пуританский,
характер. Они очень уважали "изученность", и каждый из них непременно был
грамотен; а грамотность эта самым главным образом употреблялась для изучения
слова божия, за которое они принимались с пламенною ревностью и
благоговением, а также с предубеждением, что оно сохранилось в чистоте
только в одной книге Нового завета, а в "преданиях человеческих", которым
следует духовенство, - все извращено и перепорчено. Говорят, будто такие
мысли внушены им немецкими колонистами, но, по-моему, все равно - кем это
внушено, - я знаю только одно, что из этого потом вышла так называемая
"штунда".
Холостой брат Пиднебеснихи, казак Охрим, был из людей этого сорта: он
сам научился грамоте и писанию и считал своею обязанностью научить всему
этому и других. Учил он кого только мог, и всегда задаром - ожидая за свой
труд той платы, которая обещана каждому, "кто научит и наставит".
Учительство это обыкновенно ослабевало летом, во время полевых работ, но
зато усиливалось с осени и шло неослабно во всю зиму до весенней пашни. Дети
учились днем, а по вечерам у Пиднебесного собирались "вечерницы" - рабочие
посиделки, - так, как и у прочих людей. Только у Охрима не пели пустых песен
и не вели празднословия, а дивчата пряли лен и волну, а сам Охрим, выставив
на стол тарелку меду и тарелку орехов для угощения "во имя Христово", просил
за это потчевание позволить ему "поговорить о Христе".
Молодой народ это ему дозволял, и Охрим услаждал добрые души медом,
орехами и евангельскою беседою и скоро так их к этому приохотил, что ни одна
девица и ни один парень не хотели и идти на вечерницы в другое место. Беседы
пошли даже и без меду и без орехов.
На Охримовых вечерницах также происходили и сближения, последствием
которых являлись браки, но тут тоже была замечена очень странная
особенность, необыкновенно послужившая в пользу Охримовой репутации: все
молодые люди, полюбившиеся между собою на вечерницах Охрима и потом
сделавшиеся супругами, - были, как на отбор, счастливы друг другом. Конечно,
это всего вероятнее происходило оттого, что их сближение происходило в
мирной атмосфере духовности, а не в мятеже разгульной страстности - когда
выбором руководит желанье крови, а не чуткое влечение сердца. Словом, велось
по писанию: "Господь вселял в дом единомысленные, а но преогорчевающие". Так
все шло в пользу репутации Пиднебесного, который, несмотря на свою простоту
и непритязательность, стал в Парипсах в самое почетное положение - человека
богоугодного. К нему не ходили на суд только потому, что он никого не судил,
а научиться у него желали все, "ожидавшие воскресения".
XVII
Таких людей, как Охрим Пиднебесный, в Малороссии в то время
обозначилось несколько, но все они крылись без шуму и долго оставались
незамеченными для всех, кроме крестьянского мира.
Спустя целую четверть столетия эти люди сами сказались, явясь в
обширном и тесно сплоченном религиозном союзе, который называется "штундою".
Я очень хорошо знал одного из таких вожаков: это был приветливый, добрый
холостой казак-девственник. Как большинство его товарищей, он научился
грамоте самоучкою и обучил один всех окрестных ребят и девушек. Последних он
учил на вечерницах, или, по-великорусскому, на "посиделках", на которые они
собирались к нему с работою. Девушки пряли и шили, а он рассказывал о
Христе.
Толкования его были самые простые, совсем чуждые всякой догматики и
богослужебных установлений, а имеющие почти исключительно цели нравственного
воспитания человека по идеям Иисуса. Мой знакомый казак-проповедник жил,
однако, _на левой_ стороне Днепра, в местности, где еще нет штунды.
Впрочем, в то время, к которому относится рассказ, учение это еще не
имело ничего сформированного и по правому днепровскому берегу.
XVIII
Хлопца Дукачева Савку отдали учить грамоте к Пиднебесному, а тот,
заметив, с одной стороны, быстрые способности ребенка, а с другой, его
горячую религиозность, очень его полюбил. Савва платил своему
чистосердечному учителю тем же. Так между ними образовалась связь, которая
оказалась до такой степени крепкою и нежною, что когда старый Дукач взял
сына в монастырь, чтобы там посвятить его по материнскому обету на служение
богу, то мальчик затосковал невыносимо, не столько по матери, сколько о
своем простодушном учителе. И эта тоска так повлияла на слабую организацию
нежного ребенка, что он скоро заболел, слег и наверно бы умер, если бы его
неожиданно не навестил Пиднебесный.
Он понял причину недуга своего маленького друга и, вернувшись в
Парипсы, сумел внушить Дукачихе, что жертва богу не должна быть
детоубийством. А потому советовал не томить более дитя в монастыре, а
устроить его в "_живую жертву_". Пиднебесный указывал путь не совсем чуждый
и незнакомый малороссийскому казачеству: он советовал отдать Савву в
духовное училище, откуда он потом может перейти в семинарию - и может
сделаться сельским священником, а всякий сельский священник может сделать
много добра бедным и темным людям и стать через это другом Христовым и
другом божиим.
Дукачиха убедилась доводами Охрима, и отрок Савка был взят из монастыря
и отвезен в духовное училище. Это все одобряли, кроме одной Керасивны, в
которую, вероятно за ее старые грехи, - вселился какой-то сумрачный дух
противоречия, сказывавшийся весьма неистовыми выходками, когда дело касалось
ее крестника. Она его как будто и любила и жалела, а между тем бог знает как
на его счет смущала.
Это началось еще с самого младенчества: понесут, бывало, Савку
причащать - Керасивна кричит:
- Що вы робите! не надо; не носить его... се така дытына... неможна его
причащать.
Не послушают ее - она вся позеленеет и либо смеется, либо просит народ
в церкви:
- Пустите меня скорее вон, - щоб мои очи не бачили, як ему будут
Христовой крови давать.
На вопросы: что это ее так смущает? - она отвечала:
- Так, мени тяжко! - из чего все и заключили, что с тех пор, как она
поисправилась в своей жизни и больше не колдует, черт нашел в ее душе
убранную хороминку и вернулся туда, приведя с собою еще несколько других
"_бисов_", которые не любят ребенка Савку.
И впрямь, "_бисы_" жестоко расхлопотались, когда Савку повезли в
монастырь: они так поджигали Керасивну, что та больше трех верст гналась за
санями, крича:
- Не губите свою душу - не везите его в монастырь, - бо оно к сему не
сдатное.
Но ее, разумеется, не послушали, - теперь же, когда пошла речь об
определении мальчика в училище, "откуда в попы выходят", - с Керасивной
сделалась беда: ее ударил паралич, и она надолго потеряла дар слова, который
возвратился к ней, когда дитя уже было определено.
Правда, что при определении Савки явилось было и еще одно маленькое
препятствие, которое состояло в том, что никак не могли найти его записанным
в метрические книги перегудинской церкви, но это ужасное обстоятельство для
школ гражданских - в духовных училищах принимается несколько мягче. В
духовных училищах знают, что духовенство часто позабывает вписывать _своих_
детей в метрики. Окрестивши, хорошенько подвыпьют - боятся писать, что руки
трясутся; назавтра похмеляются; на третий день ходят без памяти, а потом так
и забудут вписать. Случаи такие известны, и, конечно, так это было и здесь,
а потому хотя смотритель руганул причет пьяницами, но мальчика принял, как
он записан по исповедным росписям. А в исповедных росписях Савва был записан
прекрасно: точно, и даже не по одному разу в год.
Этим все дело и исправили, - и пошел хороший мальчик Савка отлично
учиться - окончил училище, окончил семинарию и был назначен в академию, но
неожиданно для всех отказался и объявил желание быть простым священником, и
то непременно в сельском приходе. Отец молодого богослова - старый Дукач к
этому времени уже умер, но мать его, старушка, еще жила в тех же Парипсах,
где как раз об эту пору скончался священник и открылась ваканция. Молодой
человек и попал на это место. Неожиданная весть о таком назначении очень
обрадовала парипсянских казаков, но зато совершенно лишила смысла остаревшую
Керасивну.
Услышав, что ее крестник Савва ставится в попы, она без стыда разорвала
на себе плахту и намисто; пала на кучу перегноя и выла:
- Ой земля, земля! возьми нас обоих! - Но потом, когда этот дух ее
немножко поосвободил, она встала, начала креститься и ушла к себе в хату. А
через час ее видели, как она вся в темном уборчике и с палочкой в руках шла
большим шляхом в губернский город, где должно было происходить поставление
Саввы Дукачева в священники.
Несколько человек встретили на этом шляхе Керасивку и видели, что она
шла очень поспешаючи, - ни отдыхать не садилась и ни о чем не разговаривала,
а имела такой вид, как бы на смерть шла: все вверх глядела и шепотом что-то
шептала, - верно, богу молилась. Но бог и тут не внял ее молитве. Хотя она и
попала в собор в ту самую минуту, когда дьяконы, наяривая ставленника в шею,
крикнули "повелите", но никто не внял тому, что из толпы одна сельская баба
крикнула: "Ой, не велю ж, не велю!" Ставленника постригли, а бабу выпхали и
отпустили, продержав дней десять в полиции, пока она перестирала приставу
все белье и нарубила две кади капусты. - Керасивна об одном только
интересовалась: "чи вже Савка пип?" И, узнав, что он поп, она пала на колени
и так на коленях и проползла восемь - десять верст до своих Парипс, куда
этими днями уже прибыл и новый "пип Савка".
XIX
Парипсянские казаки, как сказано, были очень рады, что им назначили
пана-отца из их же казачьего рода, и встретили попа Савву с большим
радушием. Особенно их расположило к нему еще то, что он был очень почтителен
с старой матерью и сейчас же, как приехал, спросил про свою "крестную", -
хотя наверно слыхал, что она была и такая, и сякая, и ведьма. Он ничем этим
не погнушался. Вообще всем показалось, что человек этот обещал быть очень
добрым священником, и он таким и был на самом деле. Все его полюбили, и даже
Керасивна ничего против него не говорила, а только порою супила брови да
вздыхала, шепча:
- Усе бы добре, да як бы в сей юшке рыбка была.
Но рыбки в ухе, по ее мнению, не было, а без рыбы нет и ухи. Стало
быть, как ни хорош поп Савва, а он ничего не стоит, и это непременно должно
обнаружиться.
И впрямь - в нем начали замечаться странности: во-первых, он был беден,
но совершенно равнодушен к деньгам. Во-вторых, вскоре овдовев, он не выл и
не брал себе молодой наймычки; в-третьих, когда несколько женщин пришли ему
сказать, что идут по обету в Киев, то он советовал заменить их поход обетом
послужить больным и бедным, а прежде всего успокоить семью заботами о доброй
жизни; а что касается данного обета, - он оказал неслыханную дерзость -
вызвался разрешить его и взять ответ на себя. "Разрешить обет, данный
угодникам..." Это многим показалось таким богохульством, которое едва ли
возможно для человека крещеного. Но и на этом дело не остановилось - поп
Савва вскоре же дал противу себя еще большие сомнения: в первый же великий
пост, когда все прихожане перебывали у него на духу, оказалось, что он ни
одному человеку не запретил есть, что ему бог послал, и никому не назначил
епитимных поклонов, а если и были от него кому-нибудь епитимные назначения,
то они показывали новые странности. Так, например, мельнику Гаврилке,
который заведомо брал за помол очень глубоким ковшом, отец Савва
настоятельно наказал сейчас же после исповеди сострогнуть в этом ковше края,
чтобы не брать лишнего зерна. Иначе не хотел дать ему причастия - и привел
ему на то доводы от писания, что неправая мера бога гневает и может навлечь
наказание. Мельник послушался, и все перестали им обижаться, к повалил на
его мельницу помол без перерыва. Он всенародно признался, что так с ним
Саввина епитимия сделала. Молодая, очень горячая бабенка, бывшая за вторым
мужем, лютовала над первобрачными детьми. Отец Савва и в это дело вмешался,
и после первого же своего говенья у него молодая мачеха как переродилась и
стала добра к падчерицам и к пасынкам. Жертвы за грехи он хотя и принимал, -
но не на ладан и не на свечи, а для двух бездомных и бесприютных сироток
Михалки и Потапки, которые жили у попа Саввы в землянке под колокольней.
- Да, - скажет, бывало, поп Савва бабе или девушке, - дай бог, чтобы
тебе это было прощено и чтобы ты вперед не согрешала, а ты для того
поусердствуй: послужи господу.
- Радым рада, батечку, тильки не знаю: чим ему услуговать... хиба
сходить у Кыев.
- Нет, никуда далеко ходить не надо, - дома трудись и не делай того,
что делала, а теперь сейчас пойди смеряй божиих деток Михалку да Потапку и
сшей им по порточкам, хоть по коротеньким, да по сорочке. А то велики стали
- стыдятся голые пузеня людям казать.
Грешницы охотно несли и эту епитимию, и Михалка с Потапкой жили под
опекою отца Саввы, как у самого Христа за пазушкой - и не только "голых
пузеней" не показывали, но и всего своего сиротства почти не замечали.
И подобные епитимий о. Саввы были не только всем под силу, но и многим
очень по сердцу - даже утешительны. Только, наконец, о. Савва выкинул такую
штуку, которая ему обошлась дорого. Стали к нему, в его маленькую церковку
ходить окольные люди из перегудинского прихода, где он был крещен и где
теперь был уже другой поп - не тот, с которым выпивала в своей молодости
Керасивна и к которому она возила по знакомству крестить Дукачева Савку. Это
положило начало недружеству со стороны перегудинского попа к о. Савве, а тут
произошел другой вредный случай: умер перегудинский прихожанин, богатый
казак Оселедец, и, умирая, хотел завещать "копу рублей на велыкий дзвин", то
есть на покупку большого колокола, но вдруг, поговорив перед самою смертью с
отцом Саввою, круто отменил свое намерение и ничего не назначил на велыкий
дзвин, а призвал трех хороших хозяев и объявил, что отдает им эту копу
грошей с завещанием употребить их на ту "божу потребу, яку скаже пан-отец
Савва". - Казак Оселедец умер, а пан-отец Савва указал построить за его копу
грошей светлую хату с растворчатыми окнами и стал собирать в нее ребят да
учить их грамоте и слову божию.
Казаки думали, что это, пожалуй, дело хорошее, но не знали: богоугодное
ли оно дело; а перегудинский поп это им вытолковывал так, что дело выходит
не богоугодное. Про то он обещал и донос писать, и написал. Отца Савву звали
к архиерею, но отпустили с миром, и он продолжал свое дело: служил и учил и
в школе, и дома, и на поле, и в своей малой деревянной церковке. Времени
прошло несколько лет. Перегудинский поп, соревнуя отцу Савве, этою порою
отстроил каменную церковь не в пример лучше парипсянской и богатый образ
достал, от которого людям разные чудеса сказывал, но поп Савва и его чудесам
не завидовал, а все вел свое тихое дело по-своему. Он в той же деревянной
маленькой церкви молился и божие слово читал, и его маленькая церковка ему с
людьми хоть порою тесна была, да зато перегудинскому попу в его каменном
храме так было просторно, что он чуть ли не сам-друг с пономарем по всей
церкви расхаживал и смотрел, как смело на амвон церковная мышь выбегала и
опять под амвон пряталась. И стало это перегудинскому попу, наконец, очень
досадно, но он мог лютовать на своего парипсянского соседа, отца Савву,
сколько хотел, а вреда ему никакого сделать не мог, потому что нечем ему
было под отца Савву подкопаться, да и архиерей стоял за Савву до того, что
оправдал его даже в той великой вине, что он переменил настроение казака
Оселедца, копа грошей которого пошла не на дзвин, а на школу. Долго
перегудинский поп это терпел, довольствуясь только тем, что сочинял на Савву
какие-нибудь нескладицы вроде того, что он чародей и его крестная матка была
всем известная в молодости гулячка и до сих пор остается ведьмой, потому что
никому на духу не кается и не может умереть, ибо в писании сказано: "не
хощет бог смерти грешника", но хочет, чтоб он обратился. А она не
обращается, - говеет, а на дух не ходит.
Это таки и была правда: старая Керасивна, давно оставившая все свои
слабости, хоть и жила честно и богобоязненно, но к исповеди не ходила. Ну и
возродились опять толки, что она ведьма и что, может быть, и вправду
пан-отец Савва хорош "за ее помогай".
Стал такой говор, а тут к делу подоспел другой пустой случай: стало у
коров молоко пропадать... Кто этому мог быть виноват, как не ведьма; а кто
еще большая ведьма, как не старая Керасивна, которая, всем известно, на
целое село мару напускала, мужа чертом оборачивала и теперь пережила на селе
всех своих сверстников и ровесников и все живет и ни исповедоваться, ни
умирать не хочет.
Надо было довести ее до того и до другого, и за это взялись несколько
добрых людей, давших себе слово: кто первый встретит старую Керасивну в
темном месте, - ударить ее, - как надлежит настоящему православному
христианину бить ведьму, - один раз чем попало _наотмашь_ и сказать ей:
- Издыхай, а то еще бить буду.
И одному из тех богочтителей, которые взялись за такой подвиг,
посчастливилось: повстречал он старую Керасивну в безлюдном закоулке и
сподобился так угостить ее с одного приема, что она тут же кувырнулась
ничком и простонала:
- Ой, умираю: зовите попа - исповедаться хочу. Сразу ведьма узнала, за
что ее ударили! Но чуть перетащили ее домой и прибежал к ней в перепуге отец
Савва, она опять передумала и начала оттягивать:
- Мне у тебя, - говорит, - нельзя исповедоваться, - твоя исповедь не
пользует, - хочу другого попа!
Добрый отец Савва сейчас же на своей лошадке послал в Перегуды за своим
порицателем - тамошним священником, и одного опасался, что тот закобенится и
не приедет; но опасение это было напрасно: перегудинский поп приехал, вошел
к умирающей и оставался с нею долго, долго; а потом вышел из хаты на
крылечко, заложил дароносицу за пазуху и ну заливаться самым непристойным
смехом. Так смеется, так смеется, что и унять его нельзя, и люди смотрят на
него и понять не могут: к чему это статочно.
- Да ну бо, - годи вам, пан-отче: что-то вы так смиетесь, що нам аж
страшно, - говорят ему люди. А он отвечает:
- О, то же оно так и надлежит, щобы вам було страшно; да щобы всим
страшно було - на весь крещеный мир, бо у вас тут такое поганство завелось,
якого от самого первого дня - от святого князя Владимира не було.
- О, да бог з вами, - не пужайте так страшно: идить, будьте ласковы
швидче до отца Саввы - с ним поговорить: нехай вин що добре вздумае, - як
помогты хрыстияньским душам.
А перегудинский поп еще больше расхохотался и вдруг весь позеленел,
глаза выпучил и отвечает:
- Дурни вы вси - темны и непросвещенные люди: школу себе вывели, а
ничего не бачите.
- Да того же мы вас и просим: идите до нашего отца Саввы, - вин вас у
себя в хате дожида: сядьте с ним поговорить: вин все бачит.
- Бачит! - закричал перегудинский поп. - Ни; ничего вин не бачит: вин и
того не зна: кто вин сам такий есть на свити!
- Се мы вси знаемо, що вин наш пан-отец - пип.
- Пип!
- А вже ж пип.
- А я вам кажу, що вин совсим и не пип!
- Як не пип?
- А так, не пип, да и не христианин.
- Як не христианин! годи бо вам: що се вы брешете?
- А ни: не брешу - он не христианин.
- А що ж вин таке?
- Що вин таке?
- Да!
- А бисяка его знае, що вин таке! Люди даже отшатнулись и
перекрестились, а перегудинский поп сел в сани и говорит:
- Вот я прямо от вас еду к благочинному и везу ему такую весть, що на
весь мир христианский будет срам велыкий, и тогда вы побачите, що и пип ваш
- не пип и не христианин, и дитки ваши не христиане, а кого он из вас венчав
- те все равно что не венчаны, и те, которых схоронил, - умерли яко псы, без
отпущения, и мучатся там в пекле, и будут вик мучиться, и нихто их оттуда
выратувать не может. Да; и все это, что я говорю, - есть великая правда, и с
тем я до благочинного еду, а вы если мне не верите, - идите все зараз до
Керасихи, и поки она еще дышит, - я приказал ей под страшным заклятием,
чтобы она вам все рассказала: кто есть таков сей чоловик, що вы зовете своим
попом Саввою. Да, годи уже ему людей портить: вон и сорока села у него на
крыше и кричит: "Савка, скинь кафтан!" Ничего; скоро увидимся. - Хлопче!
погоняй до благочинного, а ты, сорочка, чекочи громче: "Савка, скинь
кафтан!" А мы с благочинным сейчас назад будем.
С этим перегудинский поп ускакал, а люди, сколько их тут было, - хотели
все кучей валить в хатку Керасивны, - чтобы допытать ее: что такое она
наговорила про своего крестника - отца Савву; но, мало подумавши, решили
сделать еще иначе, послать к ней двух казаков, да чтобы с ними третий был
сам поп Савва.
XX
Пришли казаки и отец Савва и застали Керасивну, что она лежит под
образами и сама горько-прегорько плачет.
- Прости меня, - говорит, - мое серденько, мое милое да несчастливое, -
заговорила она до Саввы, - носила я в своем сердце твою тайную причину, а
свою вину больше як тридцать лет и боялась не только наяву ее никому не
сказать, но шчоб и во сне не сбредила, и оттого столько лет и на дух не шла,
ну а теперь, когда всевышнему предстать нужно, - все открыла.
Отец Савва, может быть, и струсил немножко чего-нибудь, потому что вся
эта тайна его слишком сурово дотрогивалася, но виду не показал, а спокойно
говорит:
- Да што таке за дило велыке?
- Грех велыкий я содеяла, и именно над тобою.
- Надо мною? - переспросил отец Савва.
- Да, над тобою: я тебе все в жизни испортила, потому что хотя ты и
писанию научен и в попы поставлен, а ни к чему ты к этому не годишься,
потому что ты сам до сих пор некрещеный человик.
Не мудрено себе представить, что должен был почувствовать при таком
открытии отец Савва. Он сначала было принял это за болезненный бред
умирающей - даже улыбнулся на ее слова и сказал:
- Полно, полно, крестнинькая: как же я некрещеный, когда ты моя
крестная?
Но Керасивна обнаруживала полную ясность ума и последовательность в
своем рассказе.
- Оставь про это, - сказала она. - Якая я тебе крестная? Никто тебя не
крестил. И кто во всем этом виновать, - я не знаю и во всю жизнь не могла
узнать: зробилось ли это от наших грехов или, может быть, больше от
Виколиной велыкой московськой хитрости. Но вот идет перегудинский пан-отец с
благочинным - сиди и ты здесь, - я всем все расскажу.
Благочинный было не хотел, чтобы отец Савва и казаки слушали признания
Керасивны, но она настояла на своем, под угрозою, что иначе не будет
рассказывать.
Бот ее исповедь.
XXI
Поп Савва, - говорит, - совсем и не поп и не Савва, а человек
нехрещеный, и это дело я одна знаю на свете. Пошло это все с того, что его
покойный отец, старый Дукач, был очень лют: все его не любили и все боялись,
и когда у него родился сын, никто не хотел идти в кумовья, чтобы хрестить
это дытя. Звал старый Дукач и судейского паныча и дочку нашего покойного
пана-отца, да никто не пошел. Тогда старый Дукач еще больше разлютовался на
весь народ и на самого пана-отца - и его самого не захотел крестить просить.
"Обойдусь, говорит, без всего, без их звания". Кликнул племянника. Агапку,
что у него по сиротству в дурнях жил, да и велел пару коней запрячь и меня
кумою позвал: "Поезжай, говорит, Керасивна, с Агапом в чужое село и нынче же
окрестите мою дытину". И он мне шубу подарил, только бог с нею, - я ее после
того случая и не надевала: вон она как и теперь через все тридцать лет цела
висит. И наказал мне Дукач одно, что "смотри, говорит, як Агап человек
глупый, он ничего сделать не сумеет, то ты гляди, добре с попом уладьтесь,
щобы он, чего боже борони, но якой ни есть злобе не дал хлопцу якого имени
не христианского, грудного, або московського. На двори у нас Варварин день,
а то очень опасно, - бо тут коло Варвары сряду близко Никола живет, а Никола
и есть самый первый москаль, и он нам, казакам, ни в чем не помогает, а все
на московськую руку тянет. Що там где ни случись, хоть и наша правда, - а он
пойдет, так-сяк перед богом наговорит, и все на московськую руку сделает, и
своих москалей выкрутит и оправит, а казачество обидит. Борони бог нам и
детей в его имя называть. А вот тут же рядом с ним живет святый Савка. Этот
из казаков и да нас дуже добрый. Якый он там ни есть, хоть и не важный, а
своего казака не выдаст".
Я говорю:
"Се так: да маломочен вин, святый Савка!"
А Дукач говорит:
"Ничего, что маломочен, - зато вин дуже штуковатый: где его сила не
возьмет, так на хитрость подымется и как-нибудь да отстоит казака. А мы ему
в силе сами помочь дадим, станем свечи ставить и молебен споем: бог побачит,
що и святого Савку люди добре почитают, и сам на его увагу поверне, а вин
тогда и подсилится".
Я все, что Дукач просил, - ему обещала. И завернула малого в шубу,
крест его себе на шею надела, а вноги барилочку с сливянкой поставили, и
поехали. Но только мы с версту отъехали, как поднялась метель - просто ехать
нельзя: зги никакой не видно.
Я говорю Агапу:
"Нельзя нам ехать, - воротимся!"
А он дяди боялся и ни за что не хотел воротиться.
"Бог даст, - говорит, - доедем. А мне чи замерзнуть, чи меня дядько
убье - то все едыно".
И все коней погоняет, и как уперся, так на своем и стоит.
А тем временем стало темнеть, и сделалось не видно и следа. Едем мы,
едем, и не знаем, куда едем. Кони туда-сюда вертят, крутятся, - и никуда не
приедем. Перезябли мы страшно и, чтобы не застыть, взяли и сами потянули из
той барилочки, что перегудинскому попу везли. А я на дитя посмотрела: думала
- борони бог, не задохло бы. Нет, тепленькое лежит и дышит так, что даже
парок от него валит. Я ему дырочку над личиком прокопала - пусть дышит, и
опять поехали, и опять ездили, ездили, видим, мы опять все крутимся, и нет
нам во тьме никакого просвета, а кони куда знают, туда и воротят. Теперь уже
и домой вернуться, как раньше думали, чтобы переждать метель, и того нельзя,
- нельзя уже стало и знать, куда ворочаться: где Парипсы, а где Перегуды. Я
послала Агапа, чтобы встал да коней на поводу вел, а он говорит: "Якая ты
умная! мне холодно". Обещчю ему, как домой вернемся, злот ему дать, а он
говорит:
"На що мени ваш и злот, як мы оба тут издохнем. А если хотите мне что
сделать от доброй души, так дайте мне еще хорошенько потянуть из барила". Я
говорю: "Пей сколько хочешь", - он и попил. Попил и пошел вперед, чтобы
брать коней за узду, да заместо того сейчас же сразу назад: вернулся и весь
трясется.
"Что ты, - говорю, - что с тобою такое?"
А он отвечает:
"Да ишь вы, - говорит, - якая умная: разве я могу против Николы перти?"
"Что ты, глупый человек, говоришь: чего тебе против Николы перти?"
"А кто его знает, - говорит, - чего он там стоит?"
"Где, кто стоит?"
"А вон там, - говорит, - у самого запряга - впереди коней".
"Да цур тобе, дурню, - говорю, - ты пьян!"
"Эге, хорошо, - отвечает, - что пьян, а вот же твой муж был и не пьян,
да мару видел, и я вижу".
"Ну вот, - говорю, - ты еще моего мужа вспомнил: что он видел - это я
лучше тебя знаю, что он видел, а ты говори: что тебе показывается!"
"А стоит що-сь таке совсим дуже велике в москозськой золотой шапци, аж
с нее искры сыплются".
"Это, - говорю, - у тебя у самого из пьяных глаз сыпется".
"Нет, - спорит, - это Никола в московськой, шапци. Он нас и не пуска".
Я и вздумала, что это, может быть, неправда, а может, и вправду за то,
что мы не хотели хлопца Николою писать, а Савкою, и говорю:
"Нехай же по его буде: не пуска, и не надо - мы ему теперь уступим, а
завтра по-своему сделаем. Пусти коней идти, куда хотят, - они нас домой
привезут; а ты теперь зато хоть всю барилочку выпей".
Смутила я Агапа.
"Ты, - говорю, - выпей побольше и только знай помалчивай, а я такое
брехать стану, что никому в ум не вступит, что мы брешем. Скажем, что детину
охрестили и назвали его, как Дукач хотел, добрым казачьим именем - Савкою, -
вот и крестик пока ему на шейку наденем; и в недилю (воскресенье) скажем:
пан-отец велел дытину привезти, чтобы его причастить, и как повезем, тогда
зараз и окрестим и причастим - и все будет тогда, как следует
по-христианскому".
И открыла опять дытиночка, - оно такое живеньке, спит, а само
тепленьке, даже снежок у него на лобике тает; я ему этой талой водицей на
личике крест обвела и проговорила: во имя отца, сына, и крестик надела, и
пустились на божию волю, куда кони вывезут.
Кони все шли да шли - то идут, то остановятся, то опять пойдут, а
погода все хуже да хуже, стыдь все лютее. Агап совсем опьянел, сначала
бормотал что-то, а после и голоса не стал подавать - свалился в сани и
захрапел. А я все стыла да стыла и так и не пришла в себя, пока меня у
Дукача в доме снегом стали оттирать. Тут я очнулась и вспоминала, что хотела
сказать, и то самое сказала, что дитя будто охрещено и что будто дано ему
имя Савва. Мне и поверили, и я покойна была, потому что думала все это
поправить, как сказано, в первое же воскресенье. А того и не знала, что Агап
был застреленный и скоро умер, а старого Дукача в острог берут; а когда
узнала, я хотела во всем повиниться хоть старой Дукачихе, да никак не
решалася, потому что в семье тогда большое горе было. Думала, расскажу это
все после, да и после тяжело было это открывать, и так все это день ото дня
откладывалось. А время шло да шло, а хлопец все рос; и все его Савкой звали,
и в науку его отдали, - я все не собралась открыть тайну, и все мучилась, и
все собиралась открыть, что он некрещеный, а тут, когда вдруг услыхала, что
его даже в попы ставят, - побежала было в город сказать, да меня не
допустили и его поставили, и говорить стало не к чему. Зато с тех пор я уже
и минуты покоя не знаю - мучусь, что через меня все христианство на моем
родном месте с некрещеным попом в посмех отдается. Потом, чем старее
становилась и видела, что люди его все больше любят, тем хуже мучилась и
боялась, что меня земля не примет. И вот только теперь, в мой смертный
случай, насилу сказала. Пусть простит мне все христианство, чьи души я
некрещеным попом сгубила, а меня хоть живую в землю заройте, и я ту казнь
приму с радостью".
Благочинный и перегудинский поп все это выслушали, все записали и оба к
той записи подписались, прочитали отцу Савве, а потом пошли в церковь,
положили везде печати и уехали в губернский город к архиерею и самого отца
Савву с собой увезли.
А народ тут и зашумел, пошли переговоры: что это такое над нашим
паном-отцом, да откудова и с какой стати? И можно ли тому быть, как говорит
Керасиха? Статочное ли дело ведьме верить?
И сгромоздили такую комбинацию, что все это от Николы и что теперь надо
как можно лучше "подсилить" перед богом святого Савку и идти самим до
архиерея. Отбили церковь, зажгли перед святцами все свечи, сколько было в
ящике, и послали вслед за благочинным шесть добрых казаков к архиерею
просить, чтобы он отца Савву и думать не смел от них трогать, "а то-де мы
без сего пана-отца никого слухать не хочем и пойдем до иной веры, хоть если
не до катылицкой, то до турецькой, а только без Саввы не останемся".
Вот тут-то архиерею и была загвоздка почище того, что "диакон ударил
трепака, а трепак не просит: зачем же благочинный доносит?"
Керасивна умерла, подтвердив в своем порыве покаяния всем то, что мы
знаем, и выборные казаки пошли к архиерею и всю ночь все думали о том, что
они сделают, если архиерей их не послушает и возьмет у них попа Савву?
И еще тверже решили, что вернутся они тогда на село - сразу выпьют во
всех шинках всю горелку, чтобы она никому не досталась, а потом возьмет из
них каждый по три бабы, а кто богаче, тот четыре, и будут настоящими
турками, но только другого попа не хотят, пока жив их добрый Савва. И как
это можно допустить, что он не крещен, когда им крещено, исповедано, венчано
и схоронено так много людей по всему христианству? Неужели теперь должны все
эти люди быть в "поганьском положении"? Одно, что казаки соглашались еще
уступить архиерею, - это то, что если нельзя отцу Савве попом оставаться, то
пусть архиерей его у себя, где знает, тихонько окрестит, а только чтобы
все-таки он его оставил... или иначе они... "удадутся до турецькой веры".
XXII
Это опять было зимою, и опять было под вечер и как раз около того же
Николина или Саввина дня, когда Керасивна тридцать пять лет тому назад
ездила из Парипсов в Перегуды крестить маленького Дукачева сына.
От Парипс до губернского города, где жил архиерей, было верст сорок.
Отправившаяся на выручку отца Саввы громада считала, что она пройдет верст
пятнадцать до большой корчмы жида Иоселя, - там подкрепится, погреется и к
утру как раз явится к архиерею.
Вышло немножко не так. Обстоятельства, имеющие прихоть повторяться,
сыграли с казаками ту самую историю, какая тридцать пять лет тому назад была
разыграна с Агапом и Керасивной: поднялась страшная метель, и казаки всею
громадою начали плутать по степи, потеряли след и, сбившись с дороги, не
знали, где они находятся, как вдруг, может быть всего за час перед
рассветом, видят, стоит человек, и не на простом месте, а на льду над
прорубью, и говорит весело:
- Здорово, хлопцы! Те поздоровались.
- Чего, - говорит, - это вас в такую пору носит: видите, вы мало в воду
не попали,
- Так, - говорят, - горе у нас большое, мы до архиерея спешим: хотим
прежде своих врагов его видеть, щобы он на нашу руку сделал.
- А что вам надо сделать?
- А чтобы он нам некрещеного попа оставил, а то мы такие несчастливые,
що в турки пидемо.
- Как в турки пидете! Туркам нельзя горелки пить.
- А мы ее всю вперед сразу выпьем.
- Ишь вы, какие лукавые.
- Да що же маем робить при такой обиде - як доброго попа берут.
Незнакомый говорит:
- Ну так расскажите-ка мне все толком.
Те и рассказали. И так ни с того ни с сего, стоя у проруби, умно все по
порядку сказали и опять дополнили, что если архиерей им не оставит того
Савву, то они "всей веры решатся".
Тут им этот незнакомый и говорит:
- Ну, не бойтесь, хлопцы, я надеюсь, что архиерей хорошо рассудит.
- Да воно б так и нам, - говорят, - сдается, что такий великий чин
маючи, надо добре рассудить, а бог его церьковный знае...
- Рассудит; рассудит, а не рассудит, так я помогу.
- Ты?.. а ты кто такой?
- Скажи: як тебя звать?
- Меня, - говорит, - звать Саввою. Казаки друг друга и толкнули в бок.
- Чуете, се сам Савва.
А тот Савва им потом: "Вот, - говорит, - вы пришли куда вам следует, -
вон на горке монастырь, там и архиерей живет".
Смотрят, и точно: виднеть стало, и перед ними за рекою на горке
монастырь.
Очень казаки удивились, что под такою суровою непогодою без отдыха
прошли сорок верст, и, взобравшись на горку, сели они у монастыря, достали
из сумочек у кого что было съедобного и стали подкрепляться, а сами ждут,
когда к утрене ударят и отопрут ворота.
Дождались, вошли, утреню отстояли и потом явились на архиерейское
крыльцо просить аудиенции.
Хотя наши архипастыри и не очень охочи до бесед с простецами, но этих
казаков сразу пустили в покои и поставили в приемную, где они долго, долго
ждали, пока явились сюда и перегудинский поп, и благочинный, и поп Савва, и
много других людей.
Вышел архиерей и со всеми людьми переговорил, а с благочинным и с
казаками ни слова, пока всех других из залы выпустил, а потом прямо говорит
казакам:
- Ну что, хлопцы, обидно вам? Некрещеного попа себе очень желаете? А те
отвечают:
- Милуйте - жалуйте, ваше высокопреосвященство: як же не обида... такий
був пип, такий пип, що другого такого во всем хрыстианстве нема...
Архиерей улыбнулся.
- Именно, - говорит, - такого другого нема, - да с этим оборачивается
до благочинного и говорит:
- Поди-ка в ризницу: возьми, там тебе Савва книгу приготовил, принеси и
читай, где раскрыта.
А сам сел.
Благочинный принес книгу и начал читать: "Не хощу же вас не ведети,
братие, яко отцы наши вси под облаком быша, и вси сквозь море проидоша, и
вси в Моисея крестишася во облаце и в мори. И вси тожде брашно духовное
ядоша, и вси тожде пиво духовное пияху, бо от духовного последующего камене:
камень же бе Христос".
На этом месте архиерей и перебил, говорит:
- Разумеешь ли, яже чтеши?
Благочинный отвечает:
- Разумею.
- И сейчас ли только ты это уразумел!
А благочинный и не знает, что отвечать, и так наоболмаш сказал:
- Слова сии я и прежде чел.
- А если чел, так зачем же ты такую тревогу допустил и этих добрых
людей смутил, которым он добрым пастырем был?
Благочинный отвечал:
- По правилам святых отец...
А архиерей перебил:
- Стой, - говорит, - стой: иди опять к Савве, он тебе даст правило.
Тот пошел и пришел с новою книгою.
- Читай, - говорит архиерей.
- Читаем, - начал благочинный, - у святого Григория Богослова писано
про Василия Великого, что он "был для христиан иереем до священства".
- Сие к чему? - говорит архиерей.
А благочинный отвечает:
- Я только по долгу службы моей, как оказался он некрещеный в таком
сане...
Но тут архиерей как топнет:
- Еще, - говорит, - и теперь все свое повторяешь! Стало быть,
по-твоему, сквозь облако пройдя, в Моисея можно окреститься, а во Христа
нельзя? Ведь тебе же сказано, что они, добиваясь крещения, и влажное облако
со страхом смертным проникали и на челе расталою водою того облака крест
младенцу на лице написали во имя святой троицы. Чего же тебе еще надо?
Вздорный ты человек и не годишься к делу: я ставлю на твое место попа Савву;
а вы, хлопцы, будьте без сомнения: поп ваш Савва, который вам хорош, и мне
хорош и богу приятен, и идите домой без сомнения.
Те ему в ноги.
- Довольны вы?
- Дуже довольны, - отвечают хлопцы.
- Не пойдете теперь в турки?
- Тпфу! не пидемо, батьку, не пидемо.
- И всю горелку сразу не выпьете?
- Не выпьемо от разу, не выпьемо, цур ий, пек!
- Идите же с богом и живите по-христиански.
И те уже готовы были уходить, но один из них для большего успокоения
кивнул архиерею пальцем и говорит:
- А будьте, ваша милость, ласковы отойти со мною до куточка.
Архиерей улыбнулся и говорит:
- Ну хорошо, пойдем до куточка.
Тут казак его и спрашивает:
- А звольте, ваша милость: звиткиля вы все се узнали, допреже як мы вам
сказали?
- А тебе, - говорит, - что за дело?
- Да нам таке дило, чи се не Савва ли вас всим надоумив?
Архиерей, которому все рассказал его келейник Савва, посмотрел на хохла
и говорит:
- Ты отгадал, - мне Савва все сказал.
А сам с этим и ушел из залы.
Ну, тут хлопцы и поняли все, как хотели. И с той поры живет рассказ,
как маломочный Савва тихенько да гарненько оборудовал дело так, что
московський Никола со всей своей силою ни при чем остался.
- Такий-то, - говорят, - наш Савко штуковатый, як подсилился, то таке
повыдумывал, что всех с толку сбил: то от писания покажет, то от святых отец
в нос сунет, так что аж ни чого понять не можно. Бог его святый знае: чи он
взаправду попа Савву у Керасивны за пазухою перекрестил, чи только так ловко
все закароголыв, що и архиерею не раскрутить. А вышло все на добре. На том
ему и спасыби.
О. Савва, говорят, и нынче жив, и вокруг его села кругом штунда, а в
его малой церковке все еще полно народу... И хоть неизвестно, "подсиливают"
ли там нынче св. Савка по-прежнему, но утверждают, что там по-прежнему во
всем приходе никакие Михалки и Потапки "_голые пузеня_" не показывают.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по изданию: Н. С. Лесков, Некрещеный поп, СПб., 1878, стр.
3-91. Впервые: "Гражданин", 1877, 13 октября, N 23-24, 21 октября, Э 25-26,
31 октября, Э 27-29. В отдельном издании сравнительно с первопечатным
текстом произведена значительная стилистическая правка и текст разбит на
главы. В "Гражданине" непоследовательно проведено написание "козак" и
"казак", "Порипсы" и "Парипсы". В отдельном издании Лесков почти всюду
исправил "казак" и "Парипсы", однако в нескольких местах тексты "Гражданина"
остались неисправленными. В настоящем издании всюду унифицировано - "казак"
и "Парипсы".
Повесть посвящена известному историку литературы, языковеду и
искусствоведу, профессору Московского университета Ф. И. Буслаеву
(1818-1897). Лесков познакомился с ним в 1861 году в период жизни в Москве и
совместного сотрудничества в "Русской речи". Сближение относится к июлю 1875
года во время встреч в Париже (см. письмо Лескова к Буслаеву от 1 июня I878
года - "Литературная газета", 1945, 10 марта, Э 11 (1122), стр. 3, и А.
Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 311-312).
В основе повести лежит действительно имевший место эпизод. См. в наст,
томе, стр. 579, упоминание об истории некрещеного попа в главе пятой очерка
"Епархиальный суд". Село Парипсы находится на Украине на территории нынешней
Житомирской области.
Точная дата повести неизвестна: скорее всего она написана незадолго до
публикации в "Гражданине", то есть в 1877 году.
Критика почти не реагировала на выход "Некрещеного попа". В "Указателе
по делам печати" был напечатан пересказ повести с пояснением относящихся к
ней духовных законов (1878, 1 февраля, Э 3, часть неофициальная, отд. 2,
стр. 78, без подписи). В "Новом времени" в очень коротком анонимном отзыве
было отмечено, что "рассказ веден живо и талантливо" (1877, 23 декабря, Э
655, стр. 3).
Игнатий (Брянчанинов? 1807-1867) - в 1857-1861 годах епископ
кавказский. Лесков подробно рассказывает о Брянчанинове в
"Инженерах-бессребрениках" (наст, изд., т. 8).
Коснит - медлит.
Стада Ливановы при досмотре Иакова - см. примечание на стр. 684.
Половые - светло-рыжие или серые с желтым отливом.
Запушь - укромное место.
Чепан - крестьянский верхний кафтан.
Зачичкавшийся - захиревший.
Решетиловские смушки - шкурки молодых барашков, преимущественно серого
цвета, выделывавшиеся в селе Решетиловке Полтавской губернии.
Пыха (укр.) - гордость, надменность, заносчивость.
Квак - болтун.
Худоба (укр.) - имущество.
Гребля - вал.
Село Перегуды. - Вымышленное украинское село Перегуды фигурирует у
Лескова также в написанном в середине 1890-х годов "Заячьем ремизе" (см.
наст, изд., т. 9).
Гута - стеклянный завод.
Мара - наваждение.
Дивитимусь (укр.), - посмотрю.
Прочухан - удар.
Очинок - платок, волосник, чепец.
Барилочка - бочоночек.
Паляница (укр.) - род пшеничной булки.
Как баран ждал Авраама... - Лесков имеет в виду библейский рассказ
(в "Первой книге Бытия") о том, как Авраам, повинуясь повелению бога, готов
был принести в жертву ему своего сына Исаака. Господь, испытав верность
Авраама, в последнюю минуту удержал занесенную над сыном руку; вместо Исаака
в жертву был принесен находившийся поблизости баран.
Штунда - этим названием объединяются различные рационалистические
религиозные секты, особенно распространенные на Украине.
Волна - овечья шерсть.
Когда дьяконы, наяривая ставленника в шею, крикнули "повелите"... -
В обряде посвящения священника дьяконы трижды обводят ставленника вокруг
церковного престола. Возглас "повелите" - символический вопрос к народу и
священнику о согласии на посвящение.
Копа - груда, куча.
Подсалить (укр.) - подкрепить.
Наоболмаш - наугад.
Григорий Богослов (310-390) - знаменитый проповедник раннего
христианства. Василий Великий - (или Кесарийский), (329-379) - известный
богослов, оказавший, в частности, большое влияние на выработку обрядов
богослужения.
Гарненько (укр.) - здесь в значении: аккуратненько.
Лесковская повесть «Некрещёный поп» особенно пристального внимания отечественных литературоведов не привлекала. Произведение относили чаще к роду малороссийских «пейзажей» и «жанров», «полных юмора или хотя бы и злой, но весёлой искрящейся сатиры». В самом деле, чего стоят эпизодические, но необыкновенно колоритные образы местного диакона - «любителя хореографического искусства», который «весёлыми ногами» «отхватал перед гостями трепака», или же незадачливого казака Керасенко: тот всё безуспешно пытался уследить за своей «бесстрашной самовольницей» - жинкой.
В «Некрещеном попе» Лесков как будто собирался показать «праведного попа Савву, который живет в ладу с сельским населением и не похож на типичных «сытых скотин», как теперь, используя терминологию петровской эпохи, говорит Лесков о духовенстве.
Между тем в рассказе на фоне украинского села изображена также история сельского богатея Дукача, рассорившегося со всем деревенским «миром», и веселые приключения плутоватой жинки Керасивны, прослывшей ведьмой… А об истории благочестивого, но не крещеного попа автор шутливо замечает в пятнадцатой главе: «До сих пор еще не видать ничего касающегося «некрещеного попа», меж тем, как он уже тут.» Дело в том, что введение, подробно объясняющее обстоятельства несостоявшегося, по вине Керасивны, крещения младенца Саввы, будущего попа, разрослось до размеров настоящего рассказа, и о взрослом Савве было сообщено только в эпилоге».
В этом рассказе как и во многих других произведениях Лескова, раскрывается тема нравственной чистоты праведника, духовного православия и тема наказания божьего, которое за содеянные грехи все равно рано или поздно происходит.
Читая рассказ, мы узнаем, что «в одном малороссийском казачьем селе жил казак Петро Захарович, по прозвищу Дукач». Никому и никогда этот Дукач хорошего слова не молвил и хорошего дела не сделал. Все его боялись: «селяне при встрече с ним открещивались, поспешно переходили на другую сторону, чтобы Дукач не обругал, а при случае, если его сила возьмет, даже и не побил.». Дети, завидя его, «в перепуге бросались в россыпь с криком: «Ой, лышенько, старый Дукач иде».
И все только диву давались, за что бог дал Дукачу богатство и ждали, что скоро придет расправа за его нелюбовь к людям.
И вот у Дукача родился сын, а никто из селян даже слышать не хотел, чтобы его крестить. Вот тут-то кажись, и наказал Дукача Бог. Дукач наперекор всем берет в кумовья своего племянника Агапа да бабу Керасивну, слывшую в деревне ведьмой.
С этого момента и начинаются злоключения Дукача. Только выехали Керасивна с Агатом из дому, как «начал разыгрываться ветер и превратился в жестокую бурю. Небо сверху заволокло свинцом, и пошла лютая метель...